 Colta Specials
Colta SpecialsПризнать симптом
 © BBC
© BBCВпервые на русском языке выходит автобиография легендарной танцовщицы и хореографа Марты Грэм (1894—1991). «Память крови» открывает новую издательскую серию GARAGE DANCE Музея современного искусства «Гараж», посвященную истории и теории современного танца (составитель серии — Вита Хлопова). Презентация издания пройдет в субботу, 20 мая, в рамках ярмарки книг об искусстве Garage Art Book Fair. Сегодня мы публикуем фрагмент книги, любезно предоставленный в распоряжение редакции Музеем современного искусства «Гараж» и издательством Artguide Editions.
Текст печатается в редакции источника.
Я танцовщица.
Я верю, что мы учимся на практике. Неважно, учимся ли мы танцевать, занимаясь танцем, или учимся жить в процессе жизни, — принципы одни и те же. И в танце, и в жизни выполнение определенного набора физических и интеллектуальных действий ведет к успеху, ощущению собственного бытия, успокоению духа. Человек становится атлетом Бога.
Тренироваться в чем-либо — значит выполнять некий акт ви́дения, акт веры и акт желания, невзирая на любые препятствия. Практика — это способ открыть дверь совершенству, к которому стремишься.
Танец всегда оказывал на мир магическое воздействие, и, мне кажется, причина этого в том, что он — символ исполнения жизни. Даже сейчас, когда я пишу, время уже начало превращать сегодняшний день во вчерашний — в прошлое. Величайшие научные открытия со временем изменятся и, возможно, устареют. Но искусство вечно, поскольку оно раскрывает внутренний ландшафт человека — его душу.
Я часто слышу выражение «танец жизни». Оно меня очень трогает, ведь инструмент, при помощи которого говорит танец, тот же, посредством которого проживается жизнь, — человеческое тело. Благодаря этому инструменту становятся видимыми первоосновы жизни. Он сохраняет в своей памяти все вопросы жизни, смерти и любви. Танец кажется эффектным, простым, восхитительным. Но путь, ведущий в рай достижений, очень труден. Усталость бывает такой сильной, что тело кричит даже во сне. Временами приходит чувство полной безысходности, каждый день случаются маленькие смерти. Тогда мне требуется все то утешение, которое практика сохранила в моей памяти, стойкость в вере.
Чтобы вырастить зрелого танцовщика, нужно около десяти лет. Это двойная тренировка. Сначала идет изучение и занятие ремеслом — это школа, которая помогает укрепить мышечную структуру тела. Тело формируется, дисциплинируется, ты начинаешь испытывать к нему уважение и со временем доверие. Движение становится чистым, точным, выразительным, правдивым. Движение никогда не лжет. Это барометр, говорящий о состоянии души всем, кто умеет считывать его показания. Это можно назвать законом жизни танцовщика — законом, который управляет его внешними проявлениями.
Затем начинается культивирование существа, из которого будет исходить все, что ты хочешь сказать. Оно не появляется просто ниоткуда, оно возникает из огромного любопытства. Главное, конечно, в том, что в мире существуешь только один ты, других таких нет и, если ты не осуществишься, что-то будет утеряно. Амбиций недостаточно; необходимость — вот что важно. Через нее рассказываются легенды о путешествиях души — со всей их трагичностью, горечью и сладостью жизни. Именно в этот момент непрестанное течение жизни подхватывает личность исполнителя и, по мере того как величие личности растет, личное становится все менее личным. И появляется изящество. Изящество, рожденное верой... верой в жизнь, в любовь, в людей, в акт танца. Все это необходимо для любого исполнения в жизни, волшебного, мощного, богатого смыслом.
Танцовщик благоговеет перед такими забытыми вещами, как чудо прекрасных маленьких косточек с их изящной силой. Мыслитель благоговеет перед красотой внимательного, собранного и ясного ума. Все, кто выходит на сцену, знают об улыбке, которая есть часть техники или дара акробата. Мы все временами ходим по канату обстоятельств. Мы, как и акробат, осознаем силу притяжения. Акробат улыбается, потому что в этот момент опасности он и живет. Он не выбирает падение.
Временами я боюсь ходить по этому канату. Боюсь отправляться в неизвестность. Но это часть процесса творчества и исполнения. Это то, что делает танцовщик.
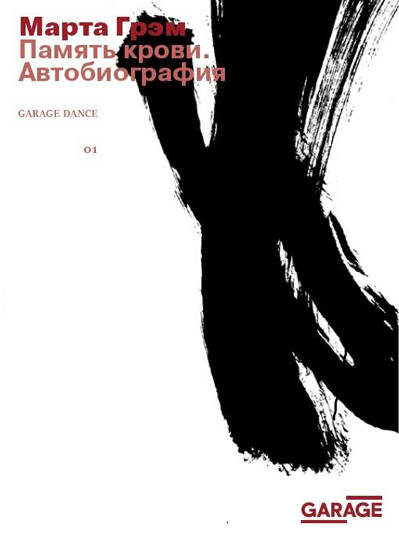 © GARAGE
© GARAGEЛюди много раз спрашивали меня, почему я выбрала судьбу танцовщицы. Я не выбирала ее. Я была избрана стать танцовщицей, и с этим живешь всю жизнь. Когда юноша или девушка спрашивают меня: «Как вы считаете, мне нужно танцевать?» — я всегда отвечаю: «Если ты задаешь этот вопрос, значит — нет». Начинать эту карьеру можно только тогда, когда у тебя есть лишь один способ оживить жизнь для себя и других... Вы узнаете чудеса человеческого тела, потому что нет ничего более чудесного. Когда вы в следующий раз взглянете в зеркало, просто посмотрите, как уши посажены на голове, как проходит линия роста волос, подумайте о маленьких косточках внутри вашего запястья. Это чудо. А танец — торжество этого чуда.
Я чувствую, что сущность танца — это выражение человека, ландшафта его души. Надеюсь, что любой мой танец открывает что-то обо мне или о том чудесном существе, каким может быть человек. Танец открывает неизвестное — мифы, легенды или ритуалы, которые возвращают нам память. Это вечный пульс жизни, абсолютное желание. На репетициях, а они у нас каждый день, есть танцовщики, особенно мужчины, которые не могут стоять неподвижно. Один танцовщик в моей труппе просто не может не двигаться, он не умеет по-другому. Кажется, иногда он не знает, что именно делает, но это другой вопрос. Сущность его внутренней жизни побуждает его танцевать. У него есть эта жажда. Каждый танец — это своего рода график температуры, график сердечного ритма. Жажда — чудесная вещь, из нее-то и рождается танец.
В период репетиций нового балета я каждый день прихожу незадолго до двух пополудни и сижу одна в зале, чтобы немного посидеть в тишине до прихода танцовщиков. Я поддразниваю себя: мол, так я культивирую свою буддистскую сущность; но на самом деле мне здесь просто очень хорошо: я чувствую уверенность, ясность и целесообразность. Именно эти элементы в этом порядке заставили одного писателя назвать танец «величественным человеческим поведением». Я сажусь спиной к нашим большим зеркалам, чтобы полностью погрузиться в себя. В зале беспорядок; мы скоро уезжаем на гастроли. Рядом с ящиками для перевозки стоят работы, сделанные для меня Исаму Ногучи, которые мы возьмем с собой, на них трафаретные надписи: «Весна в Аппалачских горах», «Иродиада», «Ночное путешествие».
Для меня этот зал с потертыми полами и дверями, открывающимися в сад, — целый мир. Когда Лила Эйчсон Уоллес показала мне его в 1952 году, он стал для меня гарантией того, что у меня будут дом и работа. Лила была великим человеком. Она понимала божественное волнение творца и находила способ оказывать поддержку и при этом не заставлять тебя чувствовать себя неловко или в долгу перед ней.
Никогда не забуду, как впервые пришла к ней в гости в Хай-Виндс. Мы сидели за обеденным столом, и Лила пила из прекрасного золотого кубка, подаренного ей египетским правительством; она говорила, что он из гробницы Тутанхамона. Муж Лилы, де Витт, посмотрел на меня: «Так ты танцовщица!» Он поднял руку выше моей головы и спросил: «Сможешь достать ногой до моей руки?» Это был официальный прием, и на мне было платье от Диора. Я ответила: «Могу, но не в этом платье». В этом зале ко мне часто приходят воспоминания о Лиле, которая навещала меня здесь и одаривала светом своей дружбы; и другие воспоминания тоже. Они говорят о том, что энергия, однажды созданная и вошедшая в мир, не может исчезнуть, она может лишь измениться. Может быть, поэтому я ощущаю так много следов присутствия людей в этой комнате.
За дверями моего зала, в саду, стоит дерево, которое всегда было символом принятия жизни, и во многом оно тоже танцовщик. Когда я въехала сюда, оно было еще годовалым побегом, и, хотя проволока ворот преграждала ему путь, оно стояло на своем и поднималось к свету; теперь, тридцать лет спустя, — это дерево с толстым стволом, внутрь которого вросла проволока. Как танцовщик, оно тянулось к свету и теперь несет на себе шрамы этого пути. Ты преодолеваешь препятствия, трудишься, добиваешься результата. Ты воплощаешь в себе любопытство, используешь жажду жизни — неважно, во зло или во благо. Тело — священное одеяние. Твое первое и последнее одеяние, в котором ты приходишь в жизнь и в котором покидаешь ее; нужно относиться к нему с почтением, радостью и одновременно с трепетом. И всегда благословлять его.
Говорят, самыми первыми видами искусства были танец и архитектура. Слово «театр» было глаголом, прежде чем стать существительным, — сначала действие, потом место. Это значит, что, чтобы взаимодействовать с другим человеком, нужно сделать жест, настоящее усилие. А еще нужно дерево, чтобы укрыться от бури или палящего солнца. Всегда есть такое дерево, эта творческая сила, и всегда есть дом, театр.
Деревья могут быть самыми прекрасными вещами в мире, особенно без листвы. Есть одно дерево у дороги, ведущей через Центральный парк с востока на запад. Каждый раз, когда я прохожу там в разное время года, оно меняется. Без листвы оно старое и пронзительное, похожее на мою любимую работу «Без маски» — о старой женщине, когда-то очень красивой. Каждый раз, видя это дерево, я приветствую его силу и тайну.
Позвоночник — древо жизни твоего тела. Через него танцовщик взаимодействует с миром; его тело говорит о том, чего не могут сказать слова, и, если он чист и открыт, он может сделать свое тело трагедийным инструментом.
В нашем зале я чувствую это напряжение, мощь тела в его спокойствии и движении. Когда-то по этому участку бежал ручей, и я верю, что в земле еще скрыты его воды. Греки чувствовали, что рядом с источником, воплощением потока жизни, живет богиня, которую можно умиротворить или оскорбить. Временами под нашим зданием чувствуется странная сила. В нашем зале прямо рядом с роялем сквозь пол пробился росток. Это другой мир, и мы принимаем его как дар.
Я поглощена магией движения и света. Движение никогда не лжет. Это магия того, что я называю космическим пространством воображения. Есть огромное пространство космоса, отдаленного от нашей повседневной жизни, где, кажется, временами блуждает наше воображение. Оно может найти или не найти другую планету, но именно этим поиском и занят танцовщик.
Есть еще и вдохновение. Откуда оно приходит? В большинстве случаев — из волнения жизни. Я черпаю вдохновение в разнообразии форм дерева или в ряби на поверхности моря, в стихотворении, глядя на дельфина, взрезающего поверхность воды и плывущего в мою сторону, — во всем, что оживляет меня прямо сейчас. Я, правда, не знаю, называть это вдохновением или необходимостью. Иногда вдохновение приходит ко мне от людей; я получаю от них много удовольствия и чаще всего чувствую, что это взаимно. Просто я люблю людей. Не каждого в отдельности, но люблю идею пульсации, идущей сквозь них, — пульсацию крови и движения.
Во всех людях, особенно в танцовщиках, со всей мощью их жизней и тел, говорит память крови. Каждый из нас унаследовал кровь отца и матери, а через них — кровь их родителей и родителей их родителей, и так в глубину веков. Мы несем в себе тысячи лет этой крови и ее памяти. Как еще можно объяснить инстинктивные жесты и мысли, приходящие к нам, когда мы не готовы к ним и не ожидаем их? Может быть, они приходят из глубин памяти о том времени, когда мир был еще хаосом, когда, как говорится в Библии, мир еще был ничем [1]. А потом, как будто через приоткрытую дверь, появился свет. Он высветил чудесные вещи. Он высветил ужасные вещи. Но то был свет.
 Марта Грэм и Эрик Хокинс на репетиции в Нью-Йорке, 1950© pbs.org
Марта Грэм и Эрик Хокинс на репетиции в Нью-Йорке, 1950© pbs.orgУильям Гойен писал в романе «Дом дыхания»: «Мы носители жизней и легенд — мы познали невидимые фрески на внутренних стенках нашего черепа». Часто танец создается благодаря стремлению найти эти скрытые фрески.
В Бирме, во время наших вторых гастролей по Азии в 1970 году, меня попросили возложить цветы к могиле бирманского Неизвестного солдата. На церемонии присутствовали наш посол и министр культуры Бирмы. Когда я возложила цветы, поднялся переполох, все разом заговорили. Бирманцы хотели знать, кто научил меня: я сделала все абсолютно правильно, с шагами и жестами, подобающими бирманской женщине моего возраста и положения. Никто меня не учил. Как никто не учил Рут Сен-Дени, как прикоснуться к поколениям танца Восточной Индии, чтобы найти для своих соло тот истинный путь и дух, которые были утрачены даже самими индийцами.
Для этого нужно держать в чистоте свой сосуд — свой ум, свое тело; так говорят мастера дзен ученикам, которые становятся слишком самодовольными, слишком углубляются в теорию и многочисленные размышления. Они спрашивают их: «Все это прекрасно, но вымыли ли вы свою чашу?» Ведь ученики-буддисты жили подаянием, а как можно получить подаяние, если твоя чаша грязна? Ученика спрашивают, готов ли он к следующему приему пищи. Это ясное указание вернуться к истокам. Слишком легко отвлечься на лишнее.
Думаю, именно это имел в виду мой отец, когда писал мне, уехавшей далеко от дома: «Марта, нужно держать душу открытой».
Такую открытость, осознанность и невинность я и взращиваю в моих танцовщиках. Хотя, как говорит нам латинский глагол educere, «образовывать», это не вопрос вкладывания чего-то внутрь, а вопрос извлечения наружу того, что было заложено с самого начала.
Когда начнется репетиция, я упомяну эту чувствительность и открытость. Танцовщики войдут сюда вместе с моими помощниками Линдой Хоудс и Роном Протасом, которых я годами учила приглядывать за моей работой и которым доверила будущее моей труппы. Линда пришла ко мне ребенком, училась у меня и танцевала со мной на сцене. Рон со мной двадцать пять лет, я обучила его моей технике. Он глубоко понимает роли, которые я создала, и интуитивно знает, чего я хочу. На репетиции всегда не хватает одного-двух танцовщиков — у кого-то травма, период реабилитации, это обычное дело. Танцовщики сейчас умеют всё, их техника феноменальна. Но страсть и осмысленность движений — это другое.
Иногда я поддразниваю танцовщиков, говоря, что сегодня они, кажется, не слишком блещут, что прыжки растрясли их мозги. И все-таки они двигаются с изяществом и своего рода неизбежностью, некоторые более мощно, чем другие. Момент репетиции — вот мгновение, которое меня заботит. Это и есть настоящее время моей жизни.
Единственное, что у нас есть, — это настоящее. Ты начинаешь из настоящего, из того, что знаешь, и движешься в прошлое, в древнее, которого не знал, но находишь в пути. Думаю, что прошлое можно найти только в самом себе, в том, что проживаешь в настоящем, что входит в твою жизнь сейчас. Мы не знаем о прошлом ничего, кроме того, что открываем для себя. А открываем мы его в настоящем. Смотреть в будущее — все равно что сидеть в кресле-качалке. Это расслабляет, и ты можешь покачиваться туда-сюда на крыльце, никогда не двигаясь вперед. Это не для меня. Люди иногда спрашивают меня, собираюсь ли я на пенсию, а я спрашиваю их: «Уйти на пенсию? Но куда уйти?» Я не верю в пенсию, потому что это время умирания.
Жизнь танцовщика вовсе не проста. Она сравнительно коротка. Я тут не пример, но и я начиная с определенного возраста уже не могла делать определенные вещи. Старость — ужасно неприятная вещь. Я не хотела стареть, потому что не понимала, что старею. Я чувствую, что это груз и ужасное бремя, которое я должна претерпеть. Старостью нельзя дорожить, нельзя ее любить. Это трудность, которую надо вынести всеми возможными способами.
Когда я перестала танцевать, это не было сознательным решением. Я поняла, что у меня нет силы или способности проникнуть во внутренний мир и душу танцовщика. Еще раньше, чем я начала танцевать, я натренировала себя — стоя перед часами, я делала четыреста прыжков за пять минут. Сегодня я не могу делать столь многого! Я в ярости оттого, что не могу этого сделать. Я не хотела и все еще не хочу переставать танцевать. Я всегда хотела иметь простую, прямую, открытую, чистую и прекрасную жизнь. Таким было мое время.
Я всегда слышу за спиной шаги моих предков, они подталкивают меня, когда я создаю новый танец, и их жесты текут сквозь меня. Неважно, хорошие они или плохие, они — часть моего рода. Ты достигаешь точки, в которой твое тело становится чем-то иным, оно несет в себе целый мир культур прошлого, идею, которую очень сложно выразить словами. Когда я создаю танец, я никогда не облекаю его в слова. Это чистый физический риск, на который ты жаждешь пойти и должна пойти. Балет, который я создаю сейчас, — тоже риск. Это все, что я могу сказать про него, поскольку он еще не закончен. Я никому не даю смотреть его, кроме танцовщиков, с которыми работаю. Когда они уходят, я остаюсь наедине с шагами моих предков.
Давным-давно я где-то слышала, что после смерти Эль Греко в его студии нашли пустой холст, где было написано всего четыре слова: «Ничто меня не радует». Я его понимаю.
 Ирвинг Пенн. Марта Грэм, Нью-Йорк, 1948© The Irving Penn Foundation
Ирвинг Пенн. Марта Грэм, Нью-Йорк, 1948© The Irving Penn FoundationИногда мне кажется, что пришло время остановиться. Я вспоминаю образ лебедя у Малларме, прекрасного лебедя, который слишком долго оставался в воде зимой, и лед сковал его лапы, поймал в ловушку. Иногда я думаю, не слишком ли долго я здесь. Может быть, мне просто страшно.
Американские индейцы верили, что жизнь идет повторяющимися циклами смерти и возрождения. Интересно, начинаю ли я новый цикл или это просто депрессия, которая является частью любой деятельности. Она — часть славы и часть неизбежности, а также часть неведомого.
Я провожу репетиции и даю уроки. Когда могу, я путешествую вместе с моей труппой, сижу в кулисах, обычно с Роном, и делаю замечания, которые он записывает в желтый блокнот. В зрительном зале Линда и еще один репетитор делают то же самое. Потом танцовщики слушают эти замечания.
Когда танцовщики сделали все как надо, я так им и говорю. Но иногда они искажают форму спектакля. Они отступают от формы, воспринимают ее слишком свободно, и мне приходится говорить «нет». Я провожу репетиции, показываю, даю уроки. Все это сводится к следующему: если что-то подписано твоим именем, ты должен в этом участвовать.
Есть еще одно жизненно важное дело — поиск денег. Это необходимо. В современном мире ты ничего не можешь без денег. Ты можешь мечтать, у тебя в душе могут быть образы, но без средств ты не сможешь воплотить их в жизнь. Я не могу отдыхать, не зная, запишут ли мои работы на пленку, сохранят ли их, сможем ли мы выплатить ипотеку за наше здание. Ни Хальстона, ни Лилы уже нет со мной, они больше не помогают мне. И лишь Мадонна, одна из моих прежних студенток, вошла в нашу жизнь, поговорила со мной и сказала, что мы найдем способ справиться с этими проблемами.
Временами я возвращаюсь в мой дом рядом со школой после особенно сложного занятия и удивляюсь, куда делись вся моя живость, ощущение волшебства моего тела. Я думаю обо всех странных событиях, которые со мной происходили. О некоторых мне рассказывали родители, некоторые я помню сама. Кажется, я всегда чувствовала огромное любопытство по отношению к жизни, к действиям других людей, других существ. Об этом когда-то сказал Эмпедокл: «Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то, был и кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной» [2]. Другими словами, капли памяти этих прошлых личностей текут сквозь меня — не реинкарнации, не превращения, ничего такого. Я говорю о божественности памяти, фрагментах памяти, о необычайно ценных вещах, которые мы забываем и которые наши тело и ум решают вспомнить... Как у Эмили Дикинсон: «Инстинкт поднимает ключ, что бросила память...»
Чего мне иногда не хватает на занятиях — это небезупречности: некоторые никогда не достигнут идеальной техники. Поначалу я не требую признаков безупречности. Я стремлюсь к жажде жизни, любознательности, ощущению чуда оттого, что ты умеешь двигаться по-настоящему — работать над идеальной первой или пятой позицией. Там начинается возбуждение, жажда, забвение всего, кроме себя. Ты погружен в этот инструмент, резонирующий с жизнью. Великий французский поэт Сен-Жон Перс сказал мне: «У нас очень мало времени, чтобы родиться в этом мгновении». На занятиях мне этого очень не хватает. Животной силы, красоты пятки, которая несет нас вперед в самую гущу жизни. Именно в этом, а не в чем-либо еще, — секрет моего одиночества.
Я совершенно не чувствую себя уникальной, но я согласна с Эдгаром Варезом — и я использую сейчас слово, которое никогда не использую в отношении себя или кого-то еще. Это слово «гений». Варез, чудесный французский композитор, писавший для меня музыку, открыл новые грани музыкальной мощи в использовании перкуссии, я никогда раньше такого не слышала. Он говорил: «Марта, все мы рождаемся гениями, но большинство людей остаются ими всего несколько секунд».
Под гениальностью он понимал любопытство, которое ведет к поиску тайны жизни. Вот что утомляет меня, когда я преподаю, и поэтому мне нужно побыть одной. Иногда на сцене видишь человека, который на самом деле наедине с собой, — это настолько величественно, что заставляет тебя замереть. Мы все обладаем этим даром, но большинство людей пользуются им всего несколько мгновений за всю свою жизнь.
Никогда не забуду один вечер, когда я допоздна задержалась в школе и вдруг зазвонил телефон. Я была в школе одна, поэтому подняла трубку: звонила женщина, чтобы узнать о занятиях для своей дочери: «Она гениальна. У нее есть интуиция. Она уникальна. Это нужно развивать сейчас». Я спросила: «Правда? Сколько ей лет?» Женщина ответила: «Два года». Я сказала, что мы принимаем только с девяти лет (сейчас мы стали брать детей гораздо младше, в связи с распространением витаминов, компьютеров и домашнего обучения). Она взмолилась: «Девять! К девяти она растеряет всю свою гениальность». А я ответила: «Мадам, если ей суждено ее потерять, пусть лучше это случится в детстве».
Я никогда не считала себя гениальной. Я не знаю, что это такое. Мне больше нравится слово «добытчик» [3], прекрасный и мощный золотистый ретривер, добывающий вещи из прошлого или из нашей общей памяти крови. Думаю, что каждым своим действием — религиозным, политическим, сексуальным — мы проявляем себя. Для меня это одна из прекраснейших вещей в жизни. Это то, что я всегда хотела делать: показывать смех, радость, аппетит — все вместе — через танец.
Чтобы работать, чтобы чувствовать возбуждение, чтобы просто быть, нужно переродиться в мгновении. Нужно разрешить себе чувствовать, быть уязвимым. Вам может не нравиться то, что вы видите, это неважно. Не всегда нужно оценивать. Но нужно открыть себя для нападения, для возбуждения, тело должно быть живым. Нужно знать, как оживить тело, у каждого свой метод. Вспоминаю великую русскую балерину и педагога Волкову, которая эмигрировала из России после революции и преподавала в Дании. Интересно, что она так никогда и не выучила ни слова по-датски, говорила только на английском. Молодой человек выполнил серию прекрасных прыжков через весь зал. Он посмотрел на Волкову в ожидании заслуженной похвалы, а она сказала: «Это было идеально. Но чересчур эффектно».
Когда танцовщик на пике своей силы, у него появляются два чудесных, хрупких и преходящих свойства. Одно — это спонтанность, которая приходит после годов тренировки. Другое — простота, но особого рода. Это состояние полнейшей простоты, стóящее всего на свете, как писал Т.С. Элиот [4].
Сколько прыжков сделал Нижинский, прежде чем прыгнул тот единственный раз, изумив весь мир? Тысячи и тысячи, и эта легенда придает нам храбрость, энергию и веру в себя, чтобы возвращаться в зал, зная, что у нас очень мало времени для «рождения в мгновении», но мы будем работать бок о бок со всеми остальными, чтобы еще раз стать единственными. Таков мир танцовщика.
Мой мир танцовщицы видел много театров, много мгновений. Но я всегда боролась с искушением оглянуться назад, вплоть до настоящего момента, когда я начала чувствовать, что сквозь мою жизнь всегда проходила одна линия — необходимость. Греческие мифы рассказывают о веретене жизни, покоящемся на коленях Необходимости, главной богини судьбы в платоновском мире [5]. Вторая богиня прядет, а третья перерезает нить. Необходимость творить? Нет. Скорее как-то преодолеть, победить страх, чтобы суметь жить дальше.
[1] Библия (синодальный перевод), Бытие I, 2: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною...»
[2] Эмпедокл. Из поэмы «Очищения» / Пер. Г.И. Якубаниса в перераб. М.Л. Гаспарова // Эллинские поэты VIII—III веков до н.э. — М., 1999. (Здесь и далее прим. ред., если не оговорено иначе.)
[3] В оригинале retriever (англ. «добытчик»), также название породы собак (прим. пер.).
[4] Грэм имеет в виду фразу из поэмы Т.С. Элиота «Литтл Гиддинг».
[5] Согласно греческому мифу, изложенному Платоном, Необходимость (др.-греч. Ананке) — мать трех богинь судьбы (мойр), которых зовут Лахесис («Дающая жребий»), Клото («Прядущая») и Атропос («Неотвратимая»). Лахесис предрекает судьбу человека еще до его рождения, Клото прядет нить человеческой жизни (и изображается с веретеном в руках), а Атропос перерезает нить, обрывая жизнь.
Перевод с английского Веры Щелкиной
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом
29 ноября 202367054 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики
17 ноября 202362397 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся
19 октября 202345271 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости
10 октября 202370394 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials