 Кино
КиноВыверните карман
 © Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
© Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ— Поздравляю вас с новым назначением. Со стороны кажется, что в должности худрука Театра на Малой Бронной нет никаких минусов — сплошные плюсы. Это ведь явно не совсем то же самое, что получить театр, давно переживший собственную славу и погребенный под ее обломками. Это дар, в котором не чувствуется скрытого подвоха, ни капли яда.
— И кто же его мог бы подложить, этот яд?
— Великие, разумеется. Кто обычно техниками владеет? На Малой Бронной есть легенда «театр Эфроса», есть славная история театра Сергея Женовача, но ни в одной из этих легенд, похоже, нет ни агрессии, ни опасности. Нет жаждущих реванша «наследников». Повезло?
— Честно говоря, я вообще не тот человек, который боится больших актеров, несущих память о великих эпохах. Работали они с великими или просто видели те спектакли — это все равно объективная реальность, эти люди несут в себе ощущение особого знания, ощущение причастности. Это ощущение можно уважать или не уважать, но скидывать его со счетов бессмысленно. Потому что это часть человеческой психики, с которой ты как режиссер имеешь дело. А психика человека включает и человеческий опыт. И с ним надо работать.
Малая Бронная — театр с традицией, с историей, с которой интересно взаимодействовать, это театр в прекрасном месте, с хорошей сценой. И это театр, наполненный, как я уже вижу, адекватными, способными, желающими работать людьми. А дальше — вопрос моей энергии, моей дипломатичности и одновременно бескомпромиссности (и правильного их сочетания). Хотелось бы театр в число главных театров города, дай бог — страны. Ну просто вернуть ему какое-то правильное самоощущение: «мы крутые».
Я верю в то, что театр — это буржуазное искусство. А вот внутри этого буржуазного искусства можно делать довольно сложные, тонкие вещи.
— С годами он превратился в несколько провинциальный, разве нет?
— Словом «провинциальность» можно атрибутировать очень многое из того, что происходит сегодня даже в очень успешных театрах. Провинциальность может присутствовать даже в суперуспешном и суперстоличном пространстве…
Я сейчас смотрю спектакли на Малой Бронной — и вижу крепкую труппу, с которой просто надо работать. Надо использовать то, что они умеют (и умеют хорошо), и предлагать им новые задачи — и все. Этот театр занимает очень аккуратную позицию между забвением и успехом, и в этой позиции — вот проблема! — можно находиться годами и десятилетиями. И это самое печальное. Когда люди привыкают и укрепляются в позиции середнячков.
Я очень хочу, чтобы театр вернул себе ощущение лидерства и в сегменте традиционного театра, и в сегменте новаторского. При этом у меня нет задачи — совершенно искренне говорю — совершать переворот. Я давно уже не… да, честно говоря, никогда и не заходил на территорию новаторского театра, условно говоря, «авангардного». Я в эти категории вообще не верю. Я верю в то, что театр — это буржуазное искусство. А вот внутри этого буржуазного искусства можно делать довольно сложные, тонкие вещи. И, на мой взгляд, больше всего театру как искусству вредила и вредит революционность. Я сейчас говорю вещь очень крамольную, но революционность в ее традиционном понимании именно театру приносила примитивность, вульгарность, наполняла его глупостью. Вот другим искусствам радикальная революционность никогда так не вредила.
— Вот тут, наверное, пора вставить какое-нибудь слово. Например, слово «Мейерхольд».
— Мейерхольд, на мой взгляд, — крайне буржуазный, ищущий буржуазного успеха человек. Театр Мейерхольда — это театр, нацеленный на признание, а не на поиск. Поиск формы был ступенью к поиску успеха у массового зрителя. Он как бы говорил: я хочу нравиться. Я не смогу понравиться традиционной, классической интерпретацией какой-нибудь пьесы, но я могу быть эдаким, особенным. Я хочу быть таким не потому, что дышать по-другому не могу, а потому, что хочу нравиться. Вот что, мне кажется, формулировал мейерхольдовский театр. И я сам сейчас очень нацелен на эту формулу и практически в первый раз ее произношу: театр — не революционное искусство. Театр — это искусство буржуазное, и его ценность — именно в его буржуазности, то есть в его внутренней нацеленности на желание нравиться, обязательно сохраняя свою сложность, свою самость и свою индивидуальность. Это тончайшая вещь, на самом деле, очень важная в человеке, это основа общества и цивилизации человеческой: сохранять самость, сохранять индивидуальность, сохранять внутреннюю сложность — и одновременно желать нравиться, желать вступать в контакт с социумом, с другими людьми. Желание делиться собой и принимать чужое. Вот театр — именно такое искусство, которое выражает эту двойственность. Театр — идеальная модель жизни: только здесь и сейчас, и никогда не повторится, и умирает навсегда, и не закрепляется в вечности. Театр — самое бескорыстное искусство в своих взаимоотношениях с вечностью и с главной проблемой человеческой цивилизации — проблемой смерти. Театр ничего не пытается выцыганить у смерти. Вот все другие искусства — это попытка выцыганить что-то у смерти: и литература, и кино… все. А театр в торги не вступает. Театр признает, что она есть, эта смерть, и что она все отменит в результате, но это не означает, что мы впадем в уныние. Вот что есть театр. Это важно. И точно так же театр — искусство, которое как бы идеально моделирует правильную организацию человека внутри социума, внутри цивилизации: сохранять самость, сохранять индивидуальность, но не за счет эскапизма. Наоборот, открывая себя другим людям. Тогда перед человеком возникает сложнейшая задача — баланса. Саморегуляции: что другому открыть, что не открывать, где проходит личная граница и так далее. Театр ставит эти сверхсложные задачи. Вот поэтому театр — это буржуазное искусство.
— Достанет ли «самости» (да и попросту самостоятельности) у русского актера, давно уже привыкшего полагаться только на то, что вкладывает в него режиссер — зачастую весьма средний? У нас немало театров, которые нравятся публике, — но об индивидуальностях там и речи нет, тем более о сложных. Какая уж тут буржуазность?
— Ну да, есть дисбаланс. Но, например, на мой взгляд, Большой драматический театр сегодня — это образец правильного движения, очень сильного, мощного. Режиссура Андрея Могучего — режиссура, на мой взгляд, именно сбалансированная в высоком смысле слова. Она стремится к поиску, к сохранению себя, но не в ущерб интересам публики. Это очень важная вещь: желать публику. Я не люблю театр, который не желает публики. Но я точно так же не люблю театр, который желает публику до потери себя. Есть еще целый ряд режиссеров, реализующих подобные принципы или движущихся в том же направлении. Возникают, естественно, и другие способы жизни в театре, и они тоже важны и полезны, потому что полезно все. Но я смотрю на театр таким образом. И, собственно, моя задача — сделать Малую Бронную вот таким в высоком смысле буржуазным театром. Театром, который будет сохранять индивидуальность, будет заниматься искусством, будет желать осваивать какие-то неизведанные территории и искать что-то новое, но при этом для него будет катастрофой потеря публики. Театр должен привлекать публику снова и снова.
— Я слышала, что «Гаргантюа» закрыли, потому что не продаются билеты.
— Билеты продаются, но, конечно же, не с той степенью интенсивности и не по такой цене, которая, наверное, была бы необходима, когда спектакль живет довольно долгое время. Он живет пять лет, это огромный возраст для очень сложного — не в силу своей формы даже, а в силу самого литературного материала — спектакля. Поэтому тут можно сказать спасибо Театру наций, что он жил и существовал: он не жил бы, если бы собирал ползала, он собирает зал, но просто, естественно, не может играться так часто, как премьерный.
 Сцена из спектакля «Гаргантюа и Пантагрюэль»© Сергей Петров / Театр Наций
Сцена из спектакля «Гаргантюа и Пантагрюэль»© Сергей Петров / Театр Наций— Значит ли это, что как худрук вы будете корректировать: я не буду делать так, как в «Гаргантюа», чтобы спектакль прожил подольше, чтобы билеты продавались…
— А вот это сложнейшая вещь. Есть разные уровни. Есть уровень отдельного спектакля — и есть уровень театра. И театр в целом — это тоже своего рода представление. И его тоже надо делать и развивать с умом. Конечно же, не может быть и речи о том, чтобы на Бронной сейчас появлялись вещи, которые не будут собирать зал, не будут делать театру громкую славу, не будут интересны фестивалям и профессиональному сообществу. Здесь не может быть такого чистого искусства, которое собирает ползала. Это должно быть чистое искусство, которое собирает полный зал. Вот это принципиальная вещь. Дальше, завоевав репутацию, завоевав свою публику, завоевав успех, театр может себе позволить сделать какой-то спектакль, который может оказаться неуспешным, но будет прекрасен. И тогда театр его будет держать у себя, потому что он прекрасен. И придумывать, как собирать зал. В многомиллионной Москве зал можно собрать всегда… Я и сам так выстраивал свою жизнь: я делал какие-то вещи, затягивавшие ко мне публику, а потом мог позволить себе какую-то более сложную вещь, на которой публика могла иногда недоумевать, но все равно шла, потому что испытывала доверие ко мне. И понимала, что, если этот человек делает именно это, значит, действительно, стоит к этому приглядеться, это надо посмотреть, надо задействовать мозг и увидеть это. Так это происходило. И, конечно, театр я бы хотел развивать примерно по такой же модели.
— Я прочла несколько ваших последних интервью, и вы все время говорите: никакой революции в театре, только эволюция. Это красиво, это замечательно. Но точно ли они узнают, что это была революция, даже если она упадет им на голову?
— Точно ли вы узнаете…
— Учитывая, как поменялся способ существования актеров в ваших работах и как он у вас до сих пор меняется, на самом деле.
— Самое большое изменение — это пять процентов ракурса. Таковы мои технологии на сегодняшний день: я не хочу и не пытаюсь ломать людей, я просто пытаюсь понять их, полюбить, почувствовать, проникнуть в их внутреннее состояние, их характеры, их чувства… Я имею в виду сейчас не персонажей, а именно актеров, сотрудников, всех, кто со мной работает. Я пытаюсь предложить им то, от чего им будет хорошо и что им пойдет. Они, как правило, чувствуют эту искреннюю заинтересованность. Чувствуют, что у меня нет желания навязывать им собственные умозрительные представления о том, что такое хорошо и как должно быть. Прежде чем предложить им что-то, я действительно проникаю, пропитываюсь людьми и собой пропитываю их тоже — медленно и аккуратно. Вот тогда мы уже становимся единым целым и действуем вместе. В итоге изменение может быть революционным, но оно происходит эволюционным путем. Никто никого не убивает, не режет, не ломает.
Жизнь вообще-то вне концепции. А страх перед жизнью, которая включает в себя смерть, — этот страх и порождает концептуальность.
— Не увольняет половину труппы, пока вторая стоит на коленях…
— Происходит как бы внимательное взаимопроникновение: мое в них и их в меня. Мне кажется, я обладаю довольно сильной энергией, довольно отчетливым пониманием процесса и просто волей и идеей, чтобы в этом пропитывании друг другом определяющей все же стала моя идея театра. В которой, на самом деле, — и мой личный путь это доказывает — есть место очень разным проявлениям театра, очень разным. Лишь бы было живое и талантливое.
— Сейчас и в театре, и в кино укрепляется позиция, отвергающая как старомодный любой традиционный способ актерского существования — тот, который мы, буржуа, по привычке называем профессиональным, который у нас ассоциируется с обаянием, с заразительностью, с возможностью и необходимостью транслировать подтекст и так далее. «Игра» отменяется. Остается в лучшем случае то, что Брессон называл «моделями». Но чаще всего остается только чистая, ни в каком ракурсе не поданная психическая реальность. А мне вот все кажется, что искусство шире. И что в актерском методе в «Содержанках», к примеру, старомодного мало.
— Все эти ограничения проистекают из глобальной нелюбви к жизни. Если люди искусства не любят жизнь, то они начинают себя ограничивать.
 Кадр из сериала «Содержанки»© Start
Кадр из сериала «Содержанки»© Start— Молодые люди то ли заворожены, то ли запуганы словом «реальность»…
— Находятся разные формы, чтобы облечь в них этот испуг перед жизнью, перед миром, перед цивилизацией. Жизнь вообще-то вне концепции. А страх перед жизнью, которая включает в себя смерть, — этот страх и порождает концептуальность. Точно так же страх перед собственными бессмысленностью и неодаренностью тоже, в конечном счете, приводит к концептуальности. И я про концептуальность как философию и религию, а не как остапбендеровскую игру. Потому что когда концептуальность становится частью игры, обмана, престидижитаторства такого — тогда о'кей, я люблю это: тогда это просто маска, одна из гримас. И это проявление какой-то широты таланта, легкости, ловкости рук. А то, что вы говорите по поводу религии…
— …сырой психической энергии…
— …по поводу вот этой религии и поиска в этом концепта…
— Нет, концепт тоже под запретом.
— Это тоже концепт — концепт подлинности. А у меня нет никакого концепта подлинности. Вот знаете, почему я люблю Вуди Аллена? Я как-то объяснял это человеку, который не понимает, что такое Вуди Аллен. Он говорит: ну есть же Триер, мы его смотрим, мы о нем говорим, мы садимся на какой-то вечеринке и все о нем разговариваем… Я тоже люблю Триера. Сейчас не будем обсуждать Триера, он — тоже не то, про что надо разговаривать, потому что он лукав и шут. Просто его шутовство — оно в других формах. Он делает абсолютно шутовские вещи. Кстати, «Дом, который построил Джек» — это абсолютно шутовская картина. Травестийная, комедийная, комическая — точно так же, как и «Антихрист». Я уверен: с годами мы поймем, что и «Антихрист», и «Джек», и целый ряд других вещей у Триера — это комедии. Никакого отношения к великим жизненным поискам они не имеют.
Так вот: сидит интеллигентная компания, разговаривает всерьез про Триера. А Вуди Аллен — это как раз тот человек, который ставит камеру и снимает, как они разговаривают. И если бы эти очень серьезные люди потом посмотрели на себя в записи, то или им было бы очень обидно, или они бы сказали, что это все фигня, или они бы ржали. Вот если бы они ржали — они бы были нормальными, живыми людьми. Излечение наступит, если посмотреть на себя со стороны — талантливый иронический взгляд излечивает гораздо круче звериной серьезности.
— Ирония давно под запретом. Ирония неприлична.
— Она не может быть под запретом. Не-не-не, вы неправы. Она не может быть под запретом, потому что это внутренняя часть человека. Нельзя отменить печень, нельзя отменить селезенку или почки. Если щекочут, нельзя отменить желание смеяться; можно напрячься и не смеяться, но желание будет. Хотя нет. В новом толерантном мире, где под запретом любая свободная энергия — например, энергия ненависти, энергия секса, — ирония тоже может оказаться лишним органом.
— И в «Славе», и в «Преступлении и наказании», и в «Содержанках» немало иронии. А то, что сделано там для уточнения современной актерской манеры игры, представляется мне довольно-таки революционным.
— Еще раз: давайте разделять революционность как результат и революционность метода. Вот революционность метода я не использую, а революционность результата, допустим, может быть достигнута. Все, что я делаю, не несет в себе никакой концептуальности, на самом деле. Я просто исхожу из того, что передо мной находится человек, я смотрю на него, и в соответствии со своим представлением о том, что есть реальное и нереальное, правдивое и неправдивое, что на меня воздействует или не воздействует, где мне человек нравится и приятен, а где он кажется мне надуманным, наигранным, неестественным, — исходя из этого я и действую. Я просто действую в соответствии со своим внутренним ощущением правды. Мое внутреннее ощущение правды, как выясняется, очень совпадает, в принципе, с человеческим, общечеловеческим ощущением правды. И оно противостоит сформированной философии правды, которая есть у театрального искусства, у киноискусства. Потому что у многих искусств есть такая философия правды и, соответственно, технология правды.
— «Простота и естественность», да.
— Правда перестает быть живым чувством твоего восприятия, она должна обладать определенными проявлениями. На события нужно реагировать так, например, или эдак… Я начинал не с того, что говорил об актерских технологиях. Я говорил актерам: проще, легче, давайте еще проще, еще проще… Они раздражались. Все. Потом я стал придумывать какую-то свою технологию и передавать ее артистам. И все артисты — как ни парадоксально, даже в большей степени артисты старшего поколения — стали на нее очень хорошо реагировать. Потому что эта технология, как мне кажется, про достоинство, чувство внутреннего достоинства. На сцене или на экране.
Старый театр — тот, где актер или режиссер интерпретирует текст. В том театре, который мне интересен, текст интерпретирует актера.
— По идее, оно связано с той самой индивидуальностью, о которой вы говорили вначале.
— Да, наверное. Я предлагаю людям любить себя. И, как ни странно, людям среднего и старшего возраста это дается гораздо легче. Они как будто устали что-то доказывать по жизни. Они просто живут. В них еще сохраняются иногда следы юношеских попыток доказать что-то кому-то на сцене, но в принципе, когда с ними начинаешь разговаривать, когда говоришь им: «Вы прекрасны, вы интересны, вы сложны, вы обаятельны, в вас все есть, зачем вам что-то доказывать?» — они мгновенно открываются. Так открываются, как не открываются молодые. И я испытываю огромное удовольствие от работы именно с ними. И зачастую назначение на юношеские роли возрастных актеров связано совсем не с какой-то определенной концепцией… Вообще никакой концепции нет, потом можно придумать любую концепцию, не проблема: если все делается правильно, то очень много можно придумывать концепций. Правильно сделанное — оно порождает дикое количество самых крутых концептуальных объяснений. Это вообще свойство хорошего продукта — его можно очень круто и интересно трактовать. Но по сути дела изначально распределение актеров — например, возрастное — связано с тем, что этот человек просто может хорошо эту роль сыграть. Он просто самый интересный, этот человек. Вот так вот. Вот я смотрю на Толю Петрова (Анатолий Петров — заслуженный артист РФ, артист БДТ имени Товстоногова. — Ред.) — и я понимаю, что лучшего Маяка мне не надо. Потому что он сложный, потому что он интересный, потому что он разный. Или Дегтярь (Валерий Дегтярь — народный артист РФ, артист БДТ имени Товстоногова. — Ред.) — вот такой Мотыльков: сложный, неоднозначный. Ему не надо что-то играть. Это он должен выходить и просто быть… Как раз это и есть Станиславский: «я» в предлагаемых обстоятельствах. Но проблема-то часто в театре заключается в том, что это «я» исковеркано. Изломано. Изнасиловано многочисленными неталантливыми режиссерами, театральными училищами, вообще нелюбовью режиссера к актеру и часто нелюбовью актера к самому себе. И вот как часто встречаешь актера, который готов и плакать, и смеяться, и все свои чувства отдавать. И смело эмоционально проявляться. А выглядит на сцене и экране фальшиво. А сам уверен, что искренен. А проблема в том, что он — просто искалеченный человек, которому сначала надо себя реального найти, а потом за роли браться.
— Достоинство — большая проблема.
— Да, потеряно достоинство собственного «я», понимаете? И все, что я делаю, — пытаюсь вернуть им его. И плюс, конечно же, использую определенные технологии свои, идеи по поводу того, что есть театр, как правильно существовать на сцене, как достигать этого правильного психического состояния… Но по сути дела я занимаюсь только одним — я пытаюсь сказать людям, что им надо любить себя, что они интересны. И, кстати, от этого возникает самая главная формула, к которой я пришел недавно. Формула, разделяющая для меня старый и новый театр. Старый театр — тот, где актер или режиссер интерпретирует текст. В том театре, который мне интересен, текст интерпретирует актера. Это важнейшая позиция. Таким образом, не мы становимся сочинителями текста, а текст сочиняет нас. Не мы предлагаем зрителю посмотреть на текст определенным образом, а текст предлагает зрителям посмотреть на нас определенным образом. И увидеть в нас самых разных героев мировой литературы. В нас. Опять же — это и есть Станиславский: «я» в предлагаемых обстоятельствах, но на совершенно другом уровне его традиционной трактовки.
— Текст, который читает актера. Хорошо. Поэтому в «Преступлении и наказании» нет ни преступления, ни наказания как событий, а есть только некое течение жизни между ними?
— Нет, почему? Там есть преступление, есть наказание. Вот это, кстати, неверная история, что там купированы преступление и наказание. Это проблема восприятия театральной реальности. Почему-то если не показать преступление, то его уже и нет. Оно есть, просто осталось за кадром, вот и все. Сам факт преступления, сам момент преступления — это не очень интересная вещь, на мой вкус. Ну хорошо, ну убивает он старушку — ну что, я буду показывать, как кровища хлещет, как он топором рубит ее? Мне неинтересно на сцене показывать физиологический момент. Мне интересно, как дальше развивается история, как герой существует в этой истории. И я обнаруживаю, когда отделяю физиологию от мысли и психики: единственное, чего боится Раскольников в течение романа, — это быть изолированным от общества. Он не проживает мучения преступления: он проживает мучительно страх изоляции.
 Сцена из спектакля «Преступление и наказание»© «Приют комедианта»
Сцена из спектакля «Преступление и наказание»© «Приют комедианта»— Ваш Раскольников словно медленно соскальзывает с абсолютной самоуверенности к финальному «я убил». Происходит какое-то тревожное подплывание реальности. Отсутствие определенности.
— Я очень люблю наблюдать, как меняется свет. Мы же никогда не замечаем, как он поменялся. Как завечерело, как стемнело. И, собственно, вот так же для меня интересно выстраивать, как меняется человек. Чтобы его движение психическое, внутреннее было настолько плавным, что вы просто в какой-то момент себе говорите: ой, а все изменилось. А когда это произошло? А бог его знает.
— Ну как? Завязка, основное событие, кульминация, развязка: дело известное. И главный монолог на авансцене.
— Ну правильно. А здесь такая ситуация, что он как-то вроде и меняется, да непонятно когда, а потом думаешь: а может, и не меняется.
— Почему для вас важно, что «может, и не меняется»? Особенно если учесть, что вы все-таки имеете дело с классическими произведениями, где, как принято считать, наличествует духовное возрождение, или, наоборот, трагический катарсис, или еще что-нибудь.
— Я давно сформулировал для себя мысль, что человек, по сути дела, не меняется. В человеке проявляется одно или другое. Доминировать может что-то.
— Но тоже как-то получается без перипетий, без катастроф. Какое-то ровное-ровное движение. Вы против эксцессов, против революций. Это усталость от революций внешних или вы так устроены? Или умеете с этим работать?
— Давайте так. Я думаю, что в человеке все есть сразу. Все. Я наблюдаю за человеком, мне интересно наблюдать за человеком, и движение человека по жизни — это что-то более сложное, чем движение его из точки A в точку B, из точки B в точку C, из точки C в точку D и так далее. Это гораздо более сложный процесс. Может быть, я не могу его сформулировать, и я не знаю, нужно ли его формулировать. Но я пытаюсь уйти от этого графика, этой схемы, этой линии, по точкам развивающейся, — я пытаюсь уйти от этого.
— От обнажения структуры?
— Я пытаюсь наблюдать за человеком, не делая выводов о нем, а любая перемена — определенный вывод. Я не верю в конечность человека. Почему я так люблю Достоевского? Ну, понятно все, бахтинская вся история — но это же действительно так, как бы ни было банально: Достоевский — не про изменения в человеческой жизни, Достоевский — про бесконечное возвращение. То есть вся история Мышкина — это идеальная история возвращения: чем начинается и чем кончается. Кончается домом в горах. Достоевский как бы вертит человека, и вертеть так можно бесконечно и бесконечно в нем что-то находить. А «развитие» человека — это значит, что тебе представляется: здесь он такой, здесь он будет другой, здесь он третий, а в этой точке — четвертый. А я вот считаю, что все точки спрессованы, соединились в одну и он в этой одной точке — одновременно, сразу весь. И если сейчас он повернулся ко мне одной гранью, а потом другой, то это не значит, что он снова не повернется прежней. Есть важнейшее ощущение тайны. Вот тайна — это очень важная вещь по отношению к человеку: человек — это тайна… И мне интересно не расшифровывать тайну, а наблюдать за ней. И донести до зрителя, что это тайна. Вот моя цель, по сути дела: не определить человека, а донести до других людей, что и человек — это тайна, и жизнь — это тайна, и цель этой жизни — тайна, а есть ли цель — я не знаю. Моя задача — возвращать постоянно людям ощущение, что вокруг тайна и что другой человек — это тайна. Применительно, например, к «Славе»: что и это время — тайна, и эпоха — тайна. Не вульгарное «сталинизм — это плохо», «37-й год — это лагеря» или, наоборот, «это счастье жизни, и свет, и радость, и оптимизм, и юность». Это тайна. Сложная: в ней есть все это вместе и что-то еще.
— Это весьма оригинальная концепция буржуазности, должна я вам заметить.
— Почему? Это предельная степень уважения к любому человеку.
— Именно предельная.
— Это как раз абсолютно антиреволюционная позиция. Потому что революционность требует определенности выбора.
— Гильотины.
— Решения, приговора. Знание, что есть хорошо и что есть плохо, движение из точки A в точку B — вот что такое революция. Ей не до тайн.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Кино
Кино Литература
Литература Общество
ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»
25 января 20229356 Искусство
Искусство Литература
Литература Кино
КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау
21 января 20228801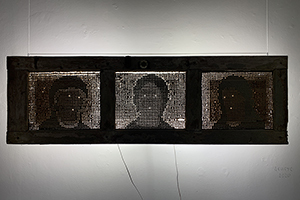 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Театр
Театр Литература
Литература Современная музыка
Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь
20 января 20229061 Академическая музыка
Академическая музыка