 Colta Specials
Colta SpecialsПризнать симптом
 Саботаж как товар, или Меняю материально-техническую базу коммунизма на «КамАЗ» ваучеров© Сергей Новиков, Максим Шер
Саботаж как товар, или Меняю материально-техническую базу коммунизма на «КамАЗ» ваучеров© Сергей Новиков, Максим Шер«Infrastructures» Сергея Новикова и Максима Шера — долгожданная и самая неожиданная фотокнига 2019 года. Вышедшая ближе к его концу в собственном микроиздательстве художников recurrentBooks и поддержанная Фондом имени Генриха Бёлля, она писалась и снималась около трех лет. Оба автора, известные до этого в основном фотографическими сериями и книгами, а также выставочными проектами с упором на визуальное, внезапно выпустили издание, где текста больше, чем фотографий. В итоге получился странный жанр, который одни считают серьезным научным трудом, а другие отказывают ему как в статусе науки, так и (особенно!) в статусе искусства. И все же получившийся в итоге толстый 350-страничный фолиант — смелое, тонкое и бескомпромиссное, но именно художественное исследование отношений власти в России. Оно не только пошло в препарировании окружающей действительности и создании ее объяснительной модели дальше, чем работы многих ученых, но и создало на обломках империй и теорий новый синтез.
Спор «наука или искусство» кажется безнадежно устаревшим. В самом деле, «исследованием» свои проекты в наше время называет значительно больше художников, чем признается в том, что творит «чистое искусство». Вот и о Новикове с Шером часто говорят, что их предыдущие проекты — «тоже аналитические». Нюанс, однако, именно в количестве слов, а также сносок и цитат. К тому же издание двуязычно, то есть объем текста еще и увеличен в два раза. Сама форма поэтому кажется очень похожей на научный фолиант. Однако, вчитываясь и всматриваясь, замечаешь разницу.
Сначала в словах. Во-первых, цитируется примерно один и тот же круг работ. Он большой — от Михаила Восленского и Ричарда Пайпса до Александра Эткинда и Галины Орловой, но ученый, скорее всего, постарался бы сделать его более разнообразным и обошелся бы без статей из Википедии. Во-вторых, сам стиль текстов слишком яркий и эмоционально-оценочный. «Ленин разрешил иностранные концессии, у Сталина и Берии ума хватило только на гулаговские шарашки», «но что эти тысячи тел для тотальной власти — пыль», «хотя настоящий реализм ценен своим критическим потенциалом, у Айвазовского его отродясь не было» — нет, перед нами не научный сборник.
 Малая приватизация, публичное пространство и страх вовлеченности© Сергей Новиков, Максим Шер
Малая приватизация, публичное пространство и страх вовлеченности© Сергей Новиков, Максим ШерЗатем — в самих фотографиях. Если ландшафты вроде бы сделаны в документальной манере, то на кадрах с людьми начинает закрадываться смутное сомнение. Лица, одежда, сама визуальная манера съемки кажутся слишком современными. Вроде бы в эпоху приватизации одевались совсем иначе? Вроде бы лозунг «Гайдар и Чубайс! Ищите другой город!» написан иным шрифтом, «не теми» цветами и в манере, скорее, современных имитаторов митингов с участием работников ЖКХ? Наконец, натыкаешься на воспроизведение фотографии из советского учебника психиатрии «Горделивая поза больного шизофренией с бредовыми идеями величия»: лично знакомые узнают в этом камео самого Максима Шера. Сомнений больше нет. Перед нами явная постановка. Но такая, из которой торчат нити и швы реальности. Кажется, никто и не собирался одевать героев перестройки и девяностых в костюмы эпохи. Это что-то вроде схемы, намека на происходившее тогда, а вовсе не точное воспроизведение. Однако и советский учебник, и снимки протестов действительно существовали, хотя где-то авторы и пытаются, скорее, смоделировать ситуацию, чем повторить известную карточку. Не воспроизводя оболочку истории, в своих фотографиях Шер и Новиков парадоксальным образом пытаются передать ее суть, но увиденную глазами современности, с дистанции нашего знания о том, что было дальше.
 Министерство психиатрии© Сергей Новиков, Максим Шер
Министерство психиатрии© Сергей Новиков, Максим ШерСами авторы факт постановки тоже не особо скрывают, а прямо пишут о нем во вступлении. И в этом, кстати, отличие от проекта Шера «Карта и территория», где псевдодокументы были смешаны с реальными артефактами эпохи. Но и в «Инфраструктурах» угадывать, где документ, а где его имитация, приходится самим зрителям, подписи указаний не дают. Этим напряженным вниманием проект втягивает в себя — то ли это такая документация перформанса, то ли что-то вроде иммерсивного театра. При этом, однако, это и не докарт. Перед нами не попытка поймать читателя псевдонаучной формой, обмануть, затянув в доверие, чтобы потом разоблачить современные структуры знания (как, скажем, у Жоана Фонткуберты). Авторы предельно серьезны в главной цели своего художественного анализа, хотя иногда и явно веселятся. Точнее, их текст и серьезен, и несерьезен одновременно, но это не уничтожающая ирония, не игра ради игры, не пастиш постмодерна, не мокьюментари. Это что-то совсем иное. Но что именно?
Новиков с Шером не спешат ответить на этот вопрос и рассеять сомнения публики. Они утверждают, что не могут обозначить жанр получившейся работы. Безусловно, для них самих это, в первую очередь, именно фото- и художественный проект — «о скрытых, малоизвестных и неявных институтах, практиках и процессах, которые являются во многом определяющими для функционирования власти, собственности и территорий на постсоветском пространстве». В нем они «визуализируют и концептуализируют идеи, техники, тактики и дискурсы» [1]. Такое количество текстов изначально не планировалось — «думали ограничиться чуть более развернутыми кэпшенами». Но в процессе работы пришли к выводу, что «так получится не слишком глубоко, а мы хотели именно что копнуть глубоко». В общем, «самостоятельно фотография не описывает в полной мере явление».
 Психотронная война как социальная анестезия© Сергей Новиков, Максим Шер
Психотронная война как социальная анестезия© Сергей Новиков, Максим ШерСам этот жанр не то чтобы новый. Шер упоминает в разговоре со мной несколько фотопроектов, в которых большое количество текста сложным образом взаимодействует с изображением. Он предполагает, что оценивать их совместную с Новиковым работу стоит именно в этом ряду — «Fish Story» Алана Секулы, «Fig.» Адама Брумберга и Оливера Чанарина, «The Heavens. Annual Report» Паоло Вудса и Габриэле Галимберти и «An American Index of the Hidden and Unfamiliar» Тарин Саймон. Мы же можем добавить к этому списку множество других вещей — от недавних серий Роба Хонстры до вышедшей еще в сороковых годах XX века книги «Let Us Now Praise Famous Men» Уолкера Эванса и Джеймса Аджи. Вообще отношения снимка и текста — давняя тема в теории и практике фотографии. И у тех, кто рассматривает (читает?) сейчас книгу, есть множество фоновых знаний — от работ Ролана Барта о роли подписи в остановке «трепетания» «плавающих цепочек означаемых» в фотографии до более недавних споров о ее смерти, потому что в ней якобы перестало работать само изображение, а авторы превратились в «писателей проектов».
Можно выйти за пределы фотографии и вспомнить размышления о «невизуальности» отечественной культуры (сами авторы пишут о «литературоцентричной стране» в 39-й главе) и о советском «невнимательном зрителе» (слова Михаила Алленова). Максим Шер также дает отсылки к кураторским экспериментам Ансельма Франке, которого сайт ArtReview называет «мастером выставок-эссе» и «насыщенных, разрастающихся топографий визуальных образов, исследований и спекуляций», и к размышлениям Николая Смирнова о художнике как о «новом типе эксперта», выносящем «некое псевдоавторитетное или частично авторитетное суждение на основе ситуативного и заведомо неполного объема информации о предмете». В любом случае, рассматриваем ли мы «Infrastructures» в контексте истории фотографии, отечественной культуры или contemporary art, сам факт включения в книгу большого количества текста не выводит ее автоматически за пределы искусства или же «фотографического проекта». Но и жанровая неопределенность «Infrastructures» с аллюзиями на самые разные эпохи, и сам отказ авторов пригвоздить и остановить колебания смысла, безусловно, описывают какую-то новую ситуацию. Часть ее связана с общемировыми тенденциями, а часть — с происходящим прямо сейчас в России.
 Мост в никуда, или Потлач как способ развития© Сергей Новиков, Максим Шер
Мост в никуда, или Потлач как способ развития© Сергей Новиков, Максим ШерО том, что фотография 2010-х не делает попытки категоричного выбора, а создает гибкие конструкции, в которых на первый план может выходить то одно, то другое, сейчас не пишет только ленивый. Главный лозунг нашей текучей эпохи — разнообразие: хочешь — делай документальную классику, а хочешь — что-то экспериментальное. Спор идет только о том, выходим ли мы совсем за рамки modernity в целом, уходя куда-то аж за пределы Ренессанса. Тотальность больше не в моде — что веры модернизма в возможность знания, что деконструкции постмодерна.
Исследовательница Эрин Макнейл говорит о постоянных «игривых колебаниях» фотографии 2010-х между предыдущими эпохами. Вместо постмодернистского отрицания предыдущего опыта как «реакционного» и возникновения на его месте однозначно ироничного пастиша пласты прошлого соединяются теперь более многослойно: художники просто «выдергивают ниточки сигнификации из более крупного полотна» и используют их для начала нового диалога [2]. В манифестах новой эпохи еще недавно искали, каким бы «-измом» ее обозвать («дигимодернизм», «постпостмодерн», «альтермодерн»?), но в последние пару лет признают: возможно, само отсутствие общего слова и есть основная черта времени перемен. Лично мне нравится термин «метамодерн» — просто потому, что он отсылает к платоновскому «метаксису», то есть к колебанию между полюсами, возможности снятия их противопоставления и постоянному диалогу.
В общем, то, что жанр «Infrastructures» трудноопределим и пересекает ограничения медиа, — черта современности. Границы поплыли во всем в мире — в самых разных смыслах. Интереснее тут другое. А именно — как с этим работают конкретные авторы и какие последствия это имеет для отечественной фотографии.
 Цепляйтесь все за мою пяточку — и спасетесь© Сергей Новиков, Максим Шер
Цепляйтесь все за мою пяточку — и спасетесь© Сергей Новиков, Максим ШерС давних пор теоретики писали о том, что фотография является самостоятельной формой исследования социальных и политических отношений, быстрым срезом окружающей действительности. Собственно, идеи об «оптически бессознательном» и о визуализации невидимого прошиты не только в первых работах по теории фотографии (например, Вальтера Беньямина), но и в ранних фотографических практиках. Один из самых острокритических за всю историю американской фотографии проектов Якоба Рииса назывался «Как живет вторая половина». Другие явления той эпохи, как то политэкономия марксизма или психоанализ (их «Infrastructures», кстати, активно использует в качестве инструментов), были движимы тем же самым пафосом — для облегчения жизни страдающих людей вскрыть незримое (бессознательное, классовые отношения) и перенести его в область замечаемого. Отличие — в визуальном: в фотографии оно стало тогда отдельным инструментом для рефлексии, который обнажал тщательно скрываемое и задействовал зрителя эмоционально. «Голодный год в Нижегородской губернии» Максима Дмитриева бил наотмашь по всем чувствам благополучного человека, который, возможно, вообще впервые увидел народные бедствия.
Понятно, что в книге Новикова и Шера фотография ничего такого не делает. Она выглядит осознанно бескачественной и вроде бы все еще находится в русле захватившей Россию и так пока и не осмысленной моды на deadpan. Что мы видели еще недавно? В конце 2000-х — начале 2010-х десятки авторов двух поколений (сейчас это 30- и 40-летние) и несколько художественных групп решили, что себя и страну нужно исследовать именно при помощи этого вида современной съемки. Такая фотография изначально опознавалась художественной средой как «прогрессивная», «молодая» и отчетливо ориентирующаяся на международный контекст. Она включала в себя определенный набор видов и жанров съемки — например, ландшафт/пейзаж с большим количеством «скучных» объектов или особого рода нейтрально-отстраненный портрет. Еще стало много проектов об отдаленных территориях и коренных народах, что, однако, не снимало проблематики постимперии и ориентализма в собственном взгляде.
 Дипломатия канонерок и цены на искусство© Сергей Новиков, Максим Шер
Дипломатия канонерок и цены на искусство© Сергей Новиков, Максим ШерDeadpan на Западе возник в эпоху постмодерна, стал тотальным стилем в 1980-х — 1990-х и был связан с поисками новых способов осмысления скрытых структур как власти в постиндустриальном обществе, так и самой фотографии. Родоначальниками эстетики deadpan считаются супруги Бехер, а на русский само слово переводят как «невыразительный», «бесстрастный» или «неэмоциональный». Такая фотография тоже работает с визуализацией повседневного и картографией незамечаемого, но иначе, чем раньше. Deadpan — это вид деконструкции, эстетика о(т)странения и ухода от сентиментальных рассуждений об эмоциональных связях снимка и реальности, от надоевшего «решающего момента». А для российских последователей — еще и разрыва с советским и постсоветским манипулированием чувствами. Однако в России он стал, как говорится, «зе стилем» только ближе к 2010-м.
Можно ли, однако, снимать в 2010-х как в 1990-х или вообще в 1960-х, делая вид, что мир не изменился? Противопоставляя себя бравурному оптимизму и «лучику света на фактуре стены», большинство авторов исследовательской фотографии старательно задвигало куда-то все неудобные темы. Так, на Западе уже давно и активно критиковали deadpan как классовое высокомерие или скуку «привилегированных мужчины или женщины, отрезанных удачным стечением хороших обстоятельств от остальной массы человечества» [3]. «Угасание аффекта» (Фредрик Джеймисон) тоже принадлежит уже ушедшей эпохе: мы-то живем после «аффективного поворота», во время, которое активно устанавливает отношения, ведет диалог, работает с сообществами и задействованием чувств зрителей. Да, сейчас каждый может снимать в любимом стиле, но все же откуда такая тотальность?
Глядя на эти кадры, трудно было удержаться от вопросов о связях псевдонейтральных тонов с крушением советской документальности в эпоху «социалистического реализма»; а ведь, в отличие от Запада, связь между мгновенным запечатлением эмоций фотографа и реальностью был разрушена у нас вовсе не в эпоху деконструкции, а еще в двадцатых-тридцатых. Или о молчании и зиянии травмы в стране, которая не любит смотреть на себя — боится или не может, потому что очень больно. О роли скуки в повседневности СССР и ее исследовании в советском андеграунде и фотоклубах — скажем, у харьковчан Бориса Михайлова и Евгения Павлова. О концептуальной постсоветской фотографии девяностых (не только в России, но и, например, в Литве), которая работала все с той же темой ухода от чувств и отчужденности. И о связях с депрессивной «стабильностью» 2000-х. Точно ли наша замороженность — это только «фотография как исследование», Бехеры и Шор с Дейкстрой, а не тоска снимков со съездов КПСС с их «поддерживаем-одобряем» или, допустим, «Нелюбовь» Звягинцева?
 Торговля угрозами как способ извлечения ренты© Сергей Новиков, Максим Шер
Торговля угрозами как способ извлечения ренты© Сергей Новиков, Максим ШерНо именно отстраненности, как кажется, и стало не хватать сейчас для исследования новой реальности. В чем она? Как видится, в том, что множество фотографов, работающих на стыке документальности и концепта, как будто вдруг пробудилось и попыталось выйти за рамки уже тесной, сковывающей оболочки «нейтрального взгляда».
Что вообще делает текст в книге Новикова и Шера? Он буквально взрывает фотографию — противоречит ей, спорит, возмущается. И главное — всячески «эмоционирует». Он дает оценки и формулирует то, что вы смутно чувствовали, но боялись понять. Он активно сопереживает тем, кого принято презирать, считая себя «не таким» — более образованным или обладающим вкусом. Парадокс, но слово как будто поменялось с фотоизображением местами. Именно текст, а не снимок подносит вам совершенно не льстящее зеркало, удивляет внезапными трактовками и соположениями фактов, выстраивает яркую концепцию о «политической культуре консерватизма» и роли тотальной неопределенности в управлении страной. Он транслирует постоянно вовлекающий в спор взгляд на историю России — начиная со времен Ивана Грозного, а то и раньше. Вы можете с ним быть категорически не согласны, обвинять авторов в шарлатанстве или однобокости, но равнодушным он точно не оставит — придется определять свое отношение. Текст выбивает вас из комфортной омертвелости замерзающей Девочки со спичками. И, подобно черепу с горящими глазами из другой известной сказки, тянет за собой фотографию, буквально заставляет смотреть кругом, не ограничиваясь ставшими привычными темами.
 Анимизм и вредительство© Сергей Новиков, Максим Шер
Анимизм и вредительство© Сергей Новиков, Максим ШерКак читатель и зритель книги, вы все время натыкаетесь на интересные, странные или совершенно неизвестные до этого факты, переносящие вас в разные эпохи и точки страны. Вот вы знали, например, что «план Даллеса по уничтожению СССР» — это страницы из книги советского писателя и партийного функционера Анатолия Иванова «Вечный зов»? Возможно, знали? А что вредительство стало отдельной статьей в Уголовном кодексе не при Сталине, а при Хрущеве — и эта статья существовала в нем вплоть до 1997 года, «причем помещена была в раздел “Государственные преступления” в один ряд со шпионажем и терроризмом»? А готовы связать современных российских политиков с «альтернативными интеллектуалами» брежневской эпохи? Что вы слышали об истории советизации Тувы и о ее бессменном первом секретаре еще с досоветского времени по 1973 год? А помните, что только в одном 1988 году при официальной ликвидации советской карательной психиатрии реабилитировали 800 тысяч недавних пациентов? Согласны ли вы с тем, что конструктивистские города для рабочих, куда селили преимущественно начальство, — прообраз современных девелоперских «закрытых поселков с псевдоиностранными названиями»? А можете представить, что независимому фотографу практически невозможно сфотографировать «неприступного» Айвазовского, потому что не удается уговорить ни музеи, ни торговцев антиквариатом (авторы в конце концов пересняли картину в одном из региональных музеев Украины)?
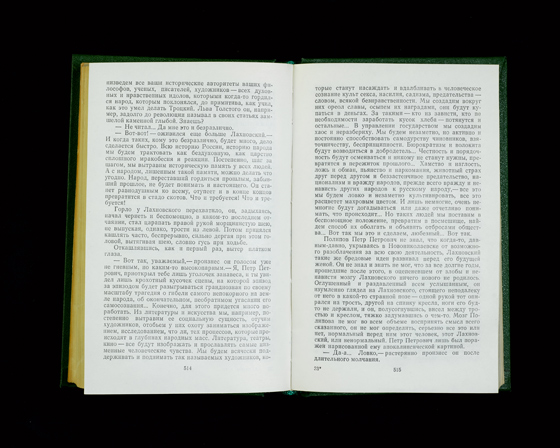 Вечный зов и разделение властей© Сергей Новиков, Максим Шер
Вечный зов и разделение властей© Сергей Новиков, Максим ШерВсе эти археологические раскопки и наблюдения над современностью Новиков и Шер производят с тем особенным, пристальным, иногда обостренным вниманием, которое свойственно любящему взгляду. Если, конечно, под любовью понимать не некритическую лакировку и идеализацию, а заинтересованность и желание менять мир к лучшему. Их действительно увлекает вообще все происходящее в стране, и этот интерес затягивает. Многие читатели-зрители книги признаются, что не смогли отложить ее, пока не досмотрели до конца.
Но главное, пожалуй, в том, что, описывая модель поведения интеллигенции в России, в которой она, «сама считающая себя послом рок-н-ролла в неритмичной стране, но при этом зависящая от власти и фактически являющаяся ее частью», воспринимает народ как «непросвещенную, покорную массу», авторы из этой модели вырываются. Они ищут контакт между сословиями и эпохами, совершают ошибки и в чем-то демонстрируют то же самое, что только что критиковали, — и вдруг выходят за рамки привычного. На наших глазах они высвечивают, деконструируют и перемалывают высокомерие, имперскость и ориентализм — прежде всего в самих себе. Используя инструментарий мировой фотографии, они пересобирают взгляд на историю и современность заново, делая проект, одновременно очень местный и очень включенный в глобальные тенденции. Выходя же за границы фотографии, они преодолевают ее местную травму, полученную в предыдущие эпохи.
 Ничейное значит общее© Сергей Новиков, Максим Шер
Ничейное значит общее© Сергей Новиков, Максим ШерТакого рода работой, как кажется, в последнее время занято сразу несколько очень разных авторов. Павел Отдельнов, в эпичном по размаху, но очень камерном по чувствам проекте «Промзона» переводивший фотографию на язык живописи, перерабатывавший ее в рамках «аффективного музея» и искавший в обращении к переосмысленному deadpan не позиции «эксперта», но бережного контакта с прошлым собственной семьи — и многих других семей. Наталья Резник, в нескольких сериях (особенно в последней — о материнстве) исследующая при помощи фотографии связь между предельно личным и обобществленным, аффектом, телом и социальными конструктами — и тоже говорящая в итоге о любви. Раиса Зорина и Артем Беркович, делающие в екатеринбургском центре фотографии «Март» потрясающие кураторские истории, ставящие своей целью вывести фотографию за пределы «своеобразного гетто» и видящие в ней «одно из средств диалога автора со зрителем». Евгений Молодцов, создающий сложные инсталляции в своих проектах о влиянии советского опыта на современность. Анастасия Цайдер и Петр Антонов, взявшие на себя в выставке «Новый пейзаж» работу кураторов и исследователей и сделавшие попытку одновременно осмысления и выхода за рамки «сурового» стиля. И даже, пожалуй, пионер deadpan в России Александр Гронский, чья «Schema» — уже ирония над тотальной деконструкцией руин советского, куда пробился солнечный свет, и Данила Ткаченко, который в вызывающих множество этических вопросов «Родине» и «Героях» пытается через выплески аффекта преодолеть опыт «абсолютного отстранения от себя, от своей личности». Кстати, у критиков шел спор и по поводу того, являются ли его работы «завершающим этапом модернизма» (см. мнения Ларисы Гринберг, Ирины Кулик и Ирины Горловой) [4].
Похоже, множество авторов сейчас вовсю преодолевает замкнутость внутри надломленного в XX веке советского фотографического взгляда, молчание коллективной травмы и мучительное ощущение тотального отчуждения от самих себя. «Infrastructures», как и ряд проектов с использованием фотографии последних двух-трех лет, говорит нам о том, что чужое искусство перестало быть карго-культом, а свои история и современность стали по-настоящему интересными. Это одновременно подведение итогов XX века, уход от российского «реакционного постмодерна», переход к разнообразию и пластичности современной эпохи и укрупнение целей для будущего. Они преломляют фонтанирование аффектом российской политики после 2014 года, но уводят политическое в совсем ином, более человеческом и повседневном, направлении — оживления, оживания и новой жизни.
[1] Сергей Новиков, Максим Шер. Власть, собственность и территория на постсоветском пространстве. — М.: recurrentBooks, 2019.
[2] E. McNeil. The Trajectory of Reflexivity (2013). In: R. Miller, J. Carson and T. Wilkie (ed.). The Reflexive Photographer. — Edinburgh, Boston: Museumsetc. Pp. 20–49 (p. 35).
[3] P.M. Spacks. Boredom: The Literary History of a State of Mind. — Chicago: University of Chicago Press, 1996.
[4] «“Родина” в огне»; «“Власть молчит и поджигает дома людей. Художник молчит и поджигает дома без людей”. Чем всех так задевает проект Данилы Ткаченко “Родина”».
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом
29 ноября 202365622 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики
17 ноября 202361057 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся
19 октября 202344095 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости
10 октября 202369055 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials