 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202427459 © Tadrart Films
© Tadrart FilmsЛакановский психоанализ в его кинотеоретическом изводе попал в Россию давно, к концу 1990-х, вместе с переводами книг Жижека и сборником «Все, что вы хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока». Однако основной массив кинотеории, созданной с опорой на Лакана, составляли работы иного толка. Ее пионеры — Кристиан Метц, Жан-Луи Бодри и Жан-Луи Комолли — занимались анализом не конкретных фильмов, а самого кинематографического диспозитива, или аппарата, как его назвал Бодри, — уникального сочетания обездвиженного зрителя, темного зала и экрана, на котором мелькают тени. То есть, по сути, изучали то, что сегодня принято называть медиатеорией. В своих работах они — и подхватившие у них эстафету британские кинотеоретики, группировавшиеся вокруг журнала Screen, — отталкивались в основном от теории зеркальной стадии. Только вместо младенца перед зеркалом-экраном оказывался сам зритель, получавший от этого экрана свой воображаемый — идеализированный — образ. «Ранняя» психоаналитическая теория, назовем ее так, работала преимущественно с одним из трех лакановских регистров — Воображаемым. И ее проблема была в том, что она практически проигнорировала более позднюю разработку теории Реального. В лаканистской «Теории» 70-х кино оказывалось безотказной служанкой идеологии, которая всегда с неизменным успехом заделывала возможные бреши в идентификации и успешно представляла идеологический конструкт как нечто природное и естественное. Психоаналитическая кинотеория была занята общими условиями восприятия кино и, даже обращаясь к конкретным фильмам, всегда заранее знала, что именно должна получить на выходе, независимо от особенностей конкретного произведения. Помимо выборочного чтения Лакана она, как через какое-то время выяснилось, страдала от избыточной обобщенности, всеядности, парадоксальным образом не оставляющей места для собственно кинокритики. Критик мог смотреть все что угодно, но сам теоретический дискурс закрывал возможности для отбора, сортировки. В каком-то смысле этот подход можно считать кинотеоретическим «рационализмом», на уровне собственной структуры воспроизводящим то самое единообразие паттерна, которое обсуждалось на предметном уровне: Теория могла увидеть в любом фильме саму себя, и именно поэтому ей было незачем ходить в кино.
Именно с такой генеральной и генерализованной Теорией полемизировали авторы знаменитого сборника «Post-Theory Reconstructing Film Studies», изданного в 1996 году усилиями Дэвида Бордуэлла и Ноэля Карролла. Но ситуация в лаканистской кинотеории стала меняться с появлением полемических работ Джоан Копжек, а позднее Жижека и других представителей Люблянской психоаналитической школы. Они «исправили» ошибки предшественников в понимании лакановской теории, вернули на место Символическое и Реальное, расширили и переформулировали понятие Взгляда (Gaze), которым раньше пользовались теоретики журнала Screen и феминистки. Подвижки на теоретическом уровне были интересным образом переведены в модус теоретической кинокритики, которая, оставаясь по сути всеядной, стала исповедовать более «гегельянский» (в смысле Жижека) подход: концепт не должен захватывать критику и интерпретацию в качестве зеркального образа, а, скорее, должен рождаться в процессе теоретически осведомленного просмотра. И если проблема Теории — в излишней генерализации, то проблема Жижека и Ко — в постепенном формировании неявного тезауруса просмотренных фильмов, своеобразной теоретической синематеки, где концепт застывает и замораживается. Интересным образом и в том, и в другом случае «кинотеория» на своем уровне воспроизводит проблему обычного кинокритика, который как для себя, так и для публики решает банальный вопрос — что именно смотреть, зачем и почему. В одном случае вопрос решается за счет генерализации, в другом — за счет своеобразного теоретического фаворитизма и непотизма (одни и те же фильмы кочуют из одной работы в другую, обласканные кинотеоретиками). Но в обоих случаях остается ощущение своеобразного произвола, возможно, неизбежного.
Мазин выводит яркую формулу «Мы трахаемся вместе в одиночку». Попутно он замечает, что в общем-то так же устроен и кино(теле)просмотр.
Те, кто интересовался психоанализом и кинотеорией в России, всей этой предыстории практически не застали (перевод книги Метца вышел у нас довольно поздно) и получили ее последние достижения в готовом виде, как state of art. Достижением, в частности, является то, что изменился подход к конкретным фильмам: в лучших образцах анализа теория больше не привносится извне, она вырастает из самого фильма и развивается вместе с ним. Поэтому, хотя проблема большинства книг о кино в том, что они чаще всего представляют собой сборники наспех переделанных статей, наборы кейсов, накопившихся у автора часто в силу каких-то случайных и контекстуальных причин и лишь условно связанных общей теоретической рамкой, для книг, написанных в лаканистской психоаналитической традиции, это не так уж и плохо; по крайней мере, это продуктивное отступление от генерализующей теории, которое, однако, способно порождать собственные проблемы.
В своей новой книге «Лакан в кино» Виктор Мазин лавирует между двумя указанными подходами, пытаясь обозначить место некоей альтернативы. Он практически не касается общей психоаналитической теории кинодиспозитива и лишь вскользь упоминает о том, что киноидентификации у зрителя могут быть множественными в силу принципиальной множественности точек зрения камеры (глава «Точки зрения “Расёмон”»). Или же обсуждает возможность зрительской идентификации с частичными объектами, когда разбирает знаменитый монтаж в сцене убийства в душе в «Психозе» Хичкока (глава «“Психоз” случился “Внезапно прошлым летом”»). Это интересные идеи, и было бы замечательно, если бы автор в дальнейшем к ним еще вернулся.
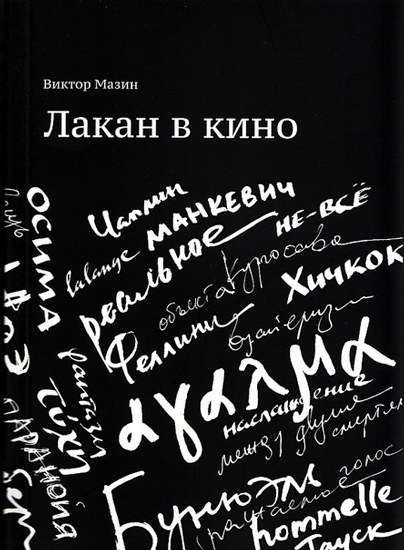 © Сеанс, 2015
© Сеанс, 2015Однако вопрос о том, почему для анализа берется именно этот, а не иной, корпус фильмов, все равно возникает. Жижек и люблянцы, несмотря на внешнюю всеядность, сформировали определенные ожидания в отношении того, в каких именно фильмах искать примеры работы психоаналитических теорий: Хичкок и классический Голливуд, современные блокбастеры, голливудский и европейский мейнстрим, некоторые включения артхауса, чаще всего очень популярного и нашумевшего. В книге Мазина иной набор: «El» Бунюэля, «Если…» Андерсона, «Правила игры» Ренуара, «Расёмон» Куросавы, «Месье Верду» Чаплина, «Внезапно прошлым летом» Манкевича, «Никогда в воскресенье» Дассена, «Хиросима, любовь моя» Рене, «Сладкая жизнь» Феллини, «Империя чувств» Осимы… Все эти фильмы объединяет то, что их видел и так или иначе упоминал в своих работах и выступлениях Лакан. Это изящная идея, и Мазину ее, по всей видимости, подсказал французский сборник «Lacan regarde le cinéma. Le cinéma regarde Lacan» (2011), который он цитирует в примечаниях и который, в свою очередь, основан на материалах итальянской конференции, проходившей в 2006 году. Это своеобразная эвристика, вроде бы позволяющая избавиться как от всеядности, так и от проблемы теоретического фаворитизма, подключившись напрямую к авторизующему взгляду Лакана, но Мазин, как мне кажется, недостаточно эксплицитно прописывает собственные ставки, когда ее подхватывает.
Подборка фильмов из «списка Лакана» в некоторой степени противоречит сложившимся стереотипам о возможности применять лакановский метод в кино так, чтобы интерпретация не оказалась редукционистской или притянутой за уши. Еще в своей ранней работе «Страх реальных слез: Кшиштоф Кеслёвский между Теорией и Пост-Теорией» («The Fright of Real Tears: Krzysztof Kieślowski Between Theory and Post-Theory») Жижек отмечал, что выбор творчества Кеслёвского как материала для полемики с противниками психоаналитической Теории покажется странным, если не кощунственным, поклонникам режиссера, уверенным в том, что можно только сливаться с уникальным режиссерским видением, но уж никак не расчленять его варварскими теоретическими методами. С тех пор Жижек, правда, обращается к более популярным и популистским примерам для большей доходчивости. Артхаус и арт-кино представляют определенную проблему для психоаналитического разбора. С одной стороны, они могут оказаться слишком откровенными, чтобы ими мог заинтересоваться психоаналитик, которому нечего будет искать в фильме, все уже сказавшем за себя. С другой, интерпретации в таком кино зачастую приходится работать не с уровнем сюжета и содержания, что у нее так хорошо получается, но с уровнем кинематографической формы. Поэтому интерпретации, собранные в книге «Лакан в кино» на основе указанной эвристики, представляют особый интерес, вроде бы расширяя не только виртуальную синематеку киноведа-лаканиста, но и теоретические возможности.
Можно выделить три режима отношений с письмом — истерический, обсессивный и перверсивный. Сложно сказать, к какой категории относится Виктор Мазин как автор книги «Лакан в кино».
Лакан так или иначе высказывался о каждом из фильмов. Иногда это развернутое высказывание. Иногда лишь краткое замечание, брошенный мимоходом намек, который нужно развить и дополнить. Мазин дополняет — цитатами из других произведений Лакана и цитатами из Фрейда, Гваттари, Жижека или Младена Долара, развивает и уточняет. Посмотрев «Империю чувств» на закрытом показе, Лакан впечатлен тем, как откровенно японцы смогли показать невозможное, нерепрезентируемое женское наслаждение, и в то же время выдвигает гипотезу, что кастрация в фильме была фантазией героини. И одновременно переходом за пределы этой фантазии, добавляет от себя Мазин, присовокупляя по ходу дела множество других интересных фактов и замечаний. Порой наличие фильма в «списке Лакана» становится для Мазина только формальным поводом для самостоятельного и подробного анализа, как в случае с «El» Бунюэля. В другой раз он просто повторяет за мэтром. Например, говоря о «Сладкой жизни», Лакан обращает внимание слушателей не на то, что Феллини — это всегда кинематограф, который существует преимущественно в режиме Воображаемого, череды фантазий, сменяющих друг друга и выматывающих зрителей, но на то, что в финале компания бездельников, очутившаяся рано утром на берегу моря, сталкивается с монструозным Реальным, воплотившимся в выловленном рыбаками морском чудовище. Чудовище смотрит на них мертвым глазом, и это и есть тот самый Взгляд, по поводу которого было сломано столько теоретических копий.
«Историческую» подборку Мазин разбавляет текстами о фильмах, которые «могли бы понравиться Лакану». И это уже выглядит в какой-то мере произвольным отступлением от собственного эмпирического метода, теоретическим кунштюком, который, правда, так и не удается перевести в какой-то принципиально другой теоретический взгляд: интерпретации фильмов, просмотренных Лаканом, все же не слишком сильно отличаются от подхода люблянцев, так что в каком-то смысле проект Жижека-кинолаканиста подтверждается. В «дополнительной» части мы обнаруживаем несколько фильмов — это «We Fuck Alone» Гаспара Ноэ, «Опасный метод» Дэвида Кроненберга, «Темный город» Алекса Пройаса и вполне монументальное «монстрологическое» исследование, посвященное Франкенштейну. С «Опасным методом» все понятно: фильм позволяет сделать интересный экскурс в историю психоанализа и привлечь внимание к фигуре Сабины Шпильрейн. Анализ короткометражного фильма Гаспара Ноэ «We Fuck Alone» Мазин предваряет разбором любопытной аберрации, приключившейся с ним: после первого просмотра он был уверен, что фильм идет сорок минут, хотя на самом деле он в два раза короче. От анекдота из личной жизни Мазин переходит к проблеме времени в бессознательном. В его случае время оказалось удвоенным точно так же, как сам фильм Ноэ представляет собой удвоение: удвоение героев, мастурбирующих и никогда не встречающих друг с другом, удвоение экранов — киноэкрана и телеэкрана, на котором персонажи фильма, юноша и девушка, смотрят порно. «We Fuck Alone» напрашивается на то, чтобы стать иллюстрацией к знаменитой лакановской формуле «Сексуальных отношений не существует», и, обыгрывая название фильма, Мазин выводит яркую формулу «Мы трахаемся вместе в одиночку» (или «Мы парами трахаемся в одиночку»). Попутно он замечает, что в общем-то так же устроен и кино(теле)просмотр — по принципу «вместе в одиночку» и что, возможно, удвоение времени случилось из-за того, что второй раз он смотрел фильм не в одиночку.
В главе, посвященной Франкенштейну, сюжет о знаменитом монстре рассматривается сначала как сюжет о том, как мужчина пытается дать жизнь без участия женщины, сам при этом превращаясь в монструозную «мужскую мать», по терминологии Барбары Крид. Франкенштейн-отец, ученый-изобретатель, образует пару и сливается с монструозным Франкенштейном-сыном. Его творение воплощает в себе сразу несколько фантазий о расчеловечивании: становление животным, становление зомби и становление машиной. От одного фильма к другому Франкенштейн эволюционирует, превращаясь из оборотня в undead, а потом и в соединение человеческого и машинного. Мазин подчеркивает, что Франкенштейн собран из «трэша», из отходов, частей мертвых тел. Поэтому в одной из более поздних вариаций, фильме «Плоть для Франкенштейна», он становится «органами без тела», сборкой частичных объектов, способных испытывать мифическое наслаждение. В другом фильме, «Армия Франкенштейна», производство монстра оказывается поставлено на поток: нацисты производят зомботов, зомби-роботов, состоящих из человеческих органов и механических частей в самых причудливых стимпанковых сборках. Тему массового производства Франкенштейна Мазин увязывает с темой Холокоста: массовое производство монстров стало возможным в силу того, что в лагерях было налажено производство трэша, мусора из людей. По большому счету, интерпретация «Франкенштейна» уже не является лаканистской, и не совсем ясно, что именно она добавляет к общей логике книги.
Избежать прямого или косвенного цитирования Жижека — задача практически невыполнимая.
Больше всего вопросов вызывает присутствие в книге текста о «Темном городе». Не потому, что этот фильм кажется случайным. Наоборот, он блестяще демонстрирует работу идеологии, представленную в образе Чужих (Strangers), которые каждую ночь перестраивают реальность и перенастраивают людей, вживляя им новые идентичности и воспоминания. И помогает им в этом человек с неслучайной, с точки зрения психоанализа, фамилией Шребер. Чужие хотят найти в человеке то, что больше его самого, его самую интимную черту, лежащую в основе его субъективности, но при этом находящуюся вне его, — objet a. Главному герою случайно удается разглядеть дыру, брешь в этом символическом порядке, создаваемом Чужими из ничего, когда его процесс ночной перенастройки дает сбой. Он пытается вырваться за границы идеологического фантазма, попутно выясняя, что за ним ничего нет, только «пустыня Реального», как было принято говорить применительно к фильму, многое позаимствовавшему у «Темного города» и в итоге его полностью заслонившему, — «Матрице». Проблема здесь в том, что «Темный город» разбирался Тоддом Макгованом, одним из тех исследователей, на которых Мазин ориентируется, в сборнике «Лакан и современное кино» («Lacan and Contemporary Film»). Мазин, конечно, ставит все необходимые ссылки, но по сути дела повторяет анализ Макгована, немного дополняя его сведениями о Шребере или, наоборот, приглушая акцент на вопросе о связи психоанализа с политическим действием, который стал двигателем указанной работы американского исследователя. Макгован дает подробную и убедительную интерпретацию (и, кстати, обзор истории психоаналитической кинотеории, с которого я начала эту рецензию, тоже опирается на его книгу «The Real Gaze: Film Theory after Lacan»). Можно было бы проинтерпретировать «Темный город» теми же методами, но как-то иначе? Не знаю. Возможно, нет. Это все-таки не классический кинотекст, который по определению имеет множество прочтений. Плохо, когда психоаналитический метод становится универсальной теоретической отмычкой, passe-passe, но он ею становится именно в силу своей эффективности. В принципе, существует немалое количество фильмов, с которыми этот метод способен работать, и потому непонятно, зачем браться за материал, с которым уже кто-то поработал до тебя, причем браться точно так же, без обозначения различий и расхождений. То же самое, кстати, относится к «Психозу» Хичкока: вроде как совсем без Хичкока не обойтись, но Мазин пересказывает тексты Жижека, вошедшие в сборник «Все, что вы хотели знать о Лакане», издававшийся по-русски. С другой стороны, писать на такую тему и избежать прямого или косвенного цитирования Жижека — задача практически невыполнимая.
Соединение эксплицитного кинотеоретического кунштюка («фильмы, просмотренные Лаканом») с достаточно произвольной подборкой того, что так или иначе понравилось у других кинотеоретиков, создает определенное напряжение в тексте, так что читатель, даже отлично понимая то, что ему говорят, не всегда понимает, зачем и в каком модусе. В случае «Лакана в кино» нигде не оговаривается, что автор, например, предполагал сделать обзор применения лакановского психоанализа к кино, не ограничиваясь представителями Люблянской школы, и ввести в научный или даже широкий культурный оборот имена таких киноведов, как Кайа Силверман или Тодд Макгован. Или что его труд представляет собой чистую экзегезу. В каждом западном университете можно найти книги «Делез и киномысль», «Рансьер и кино», «Агамбен и кино» и т.д., и никто не ждет от их авторов уникальных открытий, а только комментариев или даже просто толковых пересказов в удобоваримой для студентов форме. К сожалению, в «Лакане в кино» местами продолжается игра в амбивалентную адресацию в том виде, в каком она нередко практиковалась в 90-е. Есть два адресата: с одной стороны, «те, кто понимает», которые вчитываться не будут, но просто отметят, что да, автор в курсе контекста (да кто бы сомневался); с другой стороны, просто публика, которая вполне может принять все изложенное автором за оригинальное высказывание да и вообще не слишком озабочена вопросами атрибуции, если только речь не идет о диссертации очередного коррумпированного чиновника. Разумеется, такое рассогласование на уровне письма, невозможность выделить четкую или хотя бы единственную линию обусловлены не только некоторыми институциональными практиками самохабилитации, но и (не)выполнимостью самой задачи «писать о кино по Лакану».
Если перенести на отношения с письмом (и письмом о Лакане как его частным случаем) теорию Ренаты Салецл о трех типах отношений с желанием, то можно выделить три режима — истерический, обсессивный и перверсивный. Истерику требуется желание Другого писать как толчок для его, истерика, собственного письма. Поэтому он должен накапливать отсылки, вбрасывать их пачками, в результате всегда упуская собственное желание, точнее, обгоняя его, оставляя позади за всеми референциями то, что он сам хотел сказать. Обсессивный невротик тоже накапливает цитаты и отсылки, но для него они становятся способом отложить письмо, то есть отложить встречу со своим объектом желания, которая, как ему кажется, может привести его к катастрофе. По сути, он так никогда и не начинает писать, хотя может издавать тома с экзегезами и пересказами. Обсессивный невротик так и не начал писать, а истерик уже закончил, хотя и сам этого не заметил. Выработка у них обоих при этом может быть вполне весомой. Они даже могут оказаться в какой-то степени неразличимы. В свою очередь, перверт — тот, кто реально пишет, будучи уверен, что знает желание Другого и является орудием его наслаждения письмом. То есть перверсивность состоит в том, чтобы как ни в чем не бывало сесть и писать. Сложно сказать, к какой категории относится Виктор Мазин как автор книги «Лакан в кино», но, наверное, ближе к первой с какими-то составляющими третьей. Проблема в том, что никаких «нормальных» отношений с письмом не существует, как не существует их и с объектом желания.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202427459 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202425712 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202428536 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202434403 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202434956 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202437518 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202438238 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202443823 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202443449 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202438864 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials