 She is an expert
She is an expert«Здесь должна быть люстра, нам не нужна скульптура»
Лариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021312 Кадр из фильма «Неправильные элементы»© Le Pacte / Festival de Cannes
Кадр из фильма «Неправильные элементы»© Le Pacte / Festival de CannesФильм репортера и писателя Джонатана Литтелла «Неправильные элементы», показанный недавно в Санкт-Петербурге на «Послании к человеку» и буквально вчера в московском ЦДК, — это сделанный по проверенным лекалам Ланцмана и Оппенхаймера репортаж-реконструкция одного из эпизодов кровавой новейшей истории постколониальной Африки — войны Господней армии сопротивления, боевой протестантской секты, выступающей за построение теократического государства, против правительства Уганды (военные действия велись также в Южном Судане и в Демократической Республике Конго, где находились базы ГАС). Как и многие другие повстанческие армии, ГАС использовала детей-солдат, находя этой практике теоретическое обоснование — дети еще не испорчены, относительно безгрешны, а потому наиболее пригодны для построения нового, чистого, мира (война представлялась бойцам ГАС средством очищения общества от «неправильных элементов»). Детей не рекрутировали, но просто похищали, а потом силой автомата и убеждения заставляли встать в строй. В начале 2000-х этим солдатам-пленникам была дана амнистия, после недолгого пребывания в реабилитационных лагерях они вернулись к мирной жизни. Литтелл встречается с несколькими бывшими партизанами, и те пускаются в подробные, местами довольно ностальгические воспоминания о жизни в лесу, то жалуясь на тревогу и ночные кошмары, то с добрым смехом вспоминая былые походы. Видно, что герои фильма толком и не поняли, что именно с ними произошло. Как будто они жили в своих деревнях детьми, были похищены, воевали с правительством и, повзрослевшие, вернулись к прозе мирной жизни — но так ни разу и не пришли в сознание. Алексей Артамонов расспросил Литтелла о том, насколько его герои на самом деле были склонны к рефлексии, в чем заключается их настоящая драма и что кроме слов скрывается в человеческой памяти.
— Для большинства российских зрителей война Господней армии сопротивления против правительства Уганды — просто еще один эпизод нескончаемой гражданской войны, которая идет по всей Африке уже полвека. Почему вы заинтересовались именно этим противостоянием, почему именно ГАС?
— Я работал журналистом и в 2010—2011 годах сделал несколько больших материалов из Конго для Le Mond; ГАС была в это время еще очень активна. Первый раз я приезжал с фотографом, и мы были больше сфокусированы на жертвах этой войны. Второй раз я был уже с армией — этот визит вы и видите в фильме. Мы отслеживали людей в джунглях. В общем, с самого первого визита в Африку я был захвачен этой темой, и, конечно, когда появилась возможность сделать фильм, я ею воспользовался.
— Что значит «отслеживали людей в джунглях»?
— Армия шла по следам ГАС. Вы знаете, что такое embedders? Так называются американские военные журналисты, работающие в составе воинского подразделения. Мы провели восемь дней со взводом, там было 45 человек, выслеживавших повстанцев. Я встретил четырех бывших солдат ГАС, которые стали работать на правительственную армию, помогали ей выслеживать партизан.
В общем, я всегда интересовался историями преступников, как вы, наверное, знаете. А этот конкретный случай интересен еще и тем, что преступники одновременно являются жертвами: их похищают детьми, пытают, избивают, запугивают, превращают в убийц. ГАС кажется мне интереснее остальных повстанческих групп в Конго, Либерии и Сьерра-Леоне потому, что в прочих случаях обычно используется алкоголь, наркотики, то есть дети там воюют совершено угашенные, они мало что понимают. А ГАС — пуританская организация, алкоголь и наркотики в ней под запретом. Так что это чистая идеология, политическая и религиозная индоктринация в чистом виде. Поэтому они гораздо лучше понимают, что они делают, и в большей степени способны рассказывать о своем опыте после.
— Тем не менее вы не очень много внимания уделяете тому, как функционирует эта идеология, и больше концентрируетесь на амбивалентности положения этих людей.
— Да, я хотел бы показать этот феномен во всей его полноте, но это очень сложно, фильм был бы слишком длинным, и зритель бы просто потерялся в нем. Мы отсняли кучу материала, но пришлось выбирать, сделать все попроще, сконцентрироваться на религиозном аспекте (религиозная составляющая здесь важнее политической). Конечно, у этого явления есть и другие стороны, кроме религиозной и политической, но мы не могли останавливаться на всех деталях, рассказать всю эту историю начиная с 1993 года, когда начались похищения детей в ГАС. Нужно было двигаться по прямой.
— Да, но и в выбранных фрагментах интервью с героями подобные вещи остаются за кадром.
— Ну вот помните эпизод, с которого начинается фильм, — бывшие солдаты ГАС изображают похищение крестьян, и один из них произносит политическую речь перед пленниками. В ней, в принципе, изложена вся суть этого феномена, основные положения идеологии ГАС, почему и против чего они сражаются. Именно поэтому я и включил этот эпизод в фильм. Ничего особенно загадочного в этих людях нет, раскрывать там нечего.
 © Benedicte Kurzen / Noor
© Benedicte Kurzen / Noor— Насколько важен для вас этот момент reenactment'a, проигрывания героями драматических и даже травматических ситуаций, которые происходили когда-то с ними?
— Я бы не назвал это проигрыванием, я думаю, это переживание ситуации. Конечно, таким образом я пытался сконструировать весь фильм — вернуть человека в его прошлое. Но я не давал им конкретных указаний, я просто говорил: «Покажите, как вы похищали людей» — или: «Давайте перенесемся в такое-то время и такое-то место — и дальше делайте что хотите». В эпизоде, снятом в Судане, например, единственное, что я срежиссировал, — попросил героиню приготовить курицу перед камерой, потому что именно этим она и занималась в отряде — готовкой. И все, что за этой просьбой последовало (трое героев разыграли целый эпизод из партизанской жизни, один даже забрался на дерево как дозорный. — Ред.), было чистой импровизацией, мы просто следовали за ними с камерой. И потом я задал им об этом какие-то вопросы. Но в целом да, этот метод — ключевой для всего фильма.
— Вот я и спрашивал о том, как вы этот метод понимаете, какого результата вы хотели добиться, применяя игровую реконструкцию.
— Ну, сегодня существует уже долгая традиция кино, построенного на подобном методе. Его изобрел Клод Ланцман в «Шоа», потом Ритхи Пань использовал в «S-21», Оппенхаймер в «Акте убийства». Зачем это делается, понятно: воспоминания не ограничиваются речью, есть и другой род памяти — память тела, память действий, чувственные впечатления. Вновь помещая людей в пережитые обстоятельства, ты запускаешь целый каскад самых разнообразных видов памяти. Материалы, которые мы сняли в Судане, очень хорошо это демонстрируют: вспомните эпизод, когда появляются вертолеты и герои полностью вспоминают и воспроизводят свои действия и жесты в ситуации вертолетной атаки, они ведут себя точно так же, как вели себя, когда были детьми. И это очень впечатляет. Так что этот метод действительно эффективен для того, чтобы вернуть болезненные и травматические воспоминания. Есть, конечно, и другие методы пробуждения памяти — например, рисование, и в фильме я также использую рисунки героев. Смысл в том, чтобы добраться до их настоящих воспоминаний, неважно, какую процедуру вы используете. Главное — вытащить их настоящие воспоминания.
— Но видите ли вы пределы выразимых, вербализуемых воспоминаний? Вы хотите их просто вернуть или нащупать границы этого материала?
— Все зависит от человека, от того, как он выдерживает ретроспекцию. Например, один из моих героев, Майкл, — очень ограниченный парень, ему было неинтересно возвращаться назад, в реальность своей памяти. Он придумал себе сказку, в которой он был хорошим солдатом на хорошей войне. А другой, Джеффри, как раз чувствовал вину и готов был идти гораздо дальше. Главное, что я понял во время съемок, — одного метода всегда недостаточно. Когда я предоставлял им свободу импровизировать, много чего вылезало наружу — но до определенной степени: всегда был какой-то предел, за которым что-то оставалось непроговоренным. Поэтому иногда мне приходилось задавать им прямые вопросы. Я говорил им: «Я видел то-то и то-то, но ты не рассказал мне о том-то и о том-то». Короче, тут хороши любые работающие средства. Я встречался с Ланцманом и спрашивал его о той сцене с Авраамом Бомба в Тель-Авиве (в лагере Бомба работал в зондеркоманде, был парикмахером, стригшим заключенных перед тем, как их запускали в газовую камеру. — Ред.), о том, как он сделал это. Ланцман ответил, что это была чистая прагматика. Он расспрашивал его прямо, и Бомба не мог говорить, он был парализован, отвечал на все вопросы: «Я не могу говорить». И тогда Ланцман снял его в парикмахерской за работой, просил показать, как тот стриг людей в лагере. То есть это был просто эмпирический подход.
А иногда не работает ничего. Мы общались с группой бывших солдат ГАС, которые пробыли в джунглях очень долго, 15—19 лет, вышли совсем недавно — двоих из них вы видите в прологе фильма, эти молчаливые фигуры в джунглях. Так вот с ними метод реконструкции совершенно не работал. Тут я просто задавал вопросы и получал четкие ответы. Один из них потом отправился в Сомали в составе группы миротворцев, и я просил продюсеров устроить нам командировку в Сомали, понаблюдать за ним во время миротворческой миссии — в надежде, что, может быть, там проявятся какие-то новые обстоятельства его прошлого. Но мы были очень ограничены в сроках съемки, так что пришлось эту затею оставить.
 © Benedicte Kurzen / Noor
© Benedicte Kurzen / Noor— Я спрашивал про пределы памяти, потому что в фильме Ланцмана, например, слова — вовсе не основной медиум. Ланцман доводит в разговорах своих героев до той стены, в которую упирается речь. Когда Бомба плачет перед камерой, именно его слезы, а не слова, говорят нам о его опыте.
— Я с вами не соглашусь. Мне кажется, слова невероятно важны. И в том конкретном случае Ланцман имел дело с жертвами, я же — с исполнителями. Когда Ланцман работает в «Шоа» с нацистами и снимает их скрытой камерой, это совершенно иной режим дискуссии. Только слова, только чистые факты, ему неинтересна их психология. А меня она интересует — так же как интересует Оппенхаймера или Ритхи Паня. Думаю, его «S-21» ближе к тому, что делал я, чем фильмы Ланцмана. Помните сцену с охранником камеры? Пань просит его подмести пол и т.д. — повторить свои привычные действия. Память там реконструируется через крайне интенсивную телесность.
— Вас, кстати, не пугало, что ваш фильм будут сравнивать с «Актом убийства»?
— Нет. Оппенхаймер работал над одной темой, я параллельно над другой.
— И в чем, по-вашему, основное отличие?
— Ну, как я уже сказал, мои парни были жертвами. Они не были добровольцами. А у Оппенхаймера — чистыми преступниками, убийцами. И эта амбивалентность — жертвы, которые стали преступниками, — была довольно специфической особенностью ГАС. А «Взгляд тишины» был сделан уже после того, как я закончил свой фильм. И в нем жертвы — это просто жертвы.
— Вы чувствовали дистанцию, отделявшую вас от ваших героев, — культурно-антропологическую, например? Или вы видели их просто людьми в экстремальной ситуации?
— Безусловно, второе. Общий язык можно найти с людьми любой культуры. Эти парни сначала общались со мной как с начальником, что немного доставало. Но со временем у нас установились вполне доверительные отношения. В конце съемок они сказали мне удивительную фразу: «Мы сделали это кино вместе с тобой, потому что хотели донести память до реальности». То есть они действительно присвоили себе этот проект, они не были просто инструментами в моих руках. Иногда они использовали меня, заставляли делать какие-то вещи не для фильма — то есть это был взаимовыгодный обмен.
Конечно, они живут в ином, как вы выразились, антропологическом контексте, нежели европейцы. И я хотел бы подробнее остановиться на нем, показать еще полчаса материала про лагеря беженцев, например. Но мне кажется, что местную реальность я вполне обрисовал — ландшафты, города, заправки, мобильные телефоны, люди, живущие в буше, в полях. Все это выдает общую антропологическую, структурную, я бы сказал, реальность. Я был ограничен и вынужден, как любой режиссер, балансировать между локальным и универсальным. Как сформулировала Маргерит Юрсенар в своем рассказе «Контрольный выстрел»: «Каждая война имеет местный вкус, как хлеб или картошка. Но в то же время война — это всегда война».
— Но насколько зрителю в действительности доступен опыт этих людей? И насколько испытали его вы?
— Я не могу говорить за зрителя. Но как режиссер я сделал все что мог. Конечно, всегда есть дистанция между документалистом и его персонажами — и в фильме я ее сознательно обозначаю.
— Музыкой?
— Музыкой, закадровым голосом. Само мое положение постороннего задает ее.
— А какова у вас вообще была основная установка в отношении формата фильма? Каким принципом вы руководствовались, выбирая тот или иной материал для окончательной версии?
— Мне сложно ответить на этот вопрос. Перед началом съемки у меня была некая общая картина фильма, но реальность настолько не соответствовала этому плану, что мне приходилось принимать решения по ходу работы, ситуативно. Сцены в джунглях, от которых осталось всего несколько минут в прологе, были изначально куда более важными. В этом — магия документального кино: никогда не знаешь, что ты найдешь, с чем столкнешься в процессе съемок.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости She is an expert
She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021312 Современная музыка
Современная музыкаЛидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета
19 ноября 20212182 Современная музыка
Современная музыкаНовый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца
18 ноября 2021249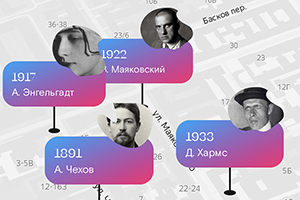 Театр
Театр Общество
ОбществоО чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко
18 ноября 2021250 Кино
Кино Театр
Театр Литература
Литература Colta Specials
Colta SpecialsЭбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века
16 ноября 2021270 Colta Specials
Colta SpecialsПеред лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией
16 ноября 2021227 Академическая музыка
Академическая музыка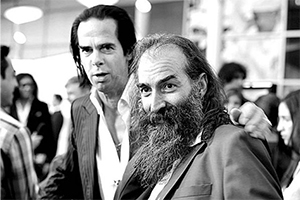 Современная музыка
Современная музыкаВ книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата
16 ноября 2021210