 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202436790 Кадр из фильма «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека»
Кадр из фильма «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека»23, 26, 30 июня, 7 и 14 июля в московском «Музеоне» пройдут показы одной из программ Медиафорума ММКФ «Говорящее кино» (куратор — Алексей Артамонов). Главная коллизия программы — столкновение визуального (движущегося или статичного изображения) и вербального (текста), так или иначе происходящее во всех работах. Максим Семенов и Глеб Напреенко предлагают два взаимодополняющих взгляда на природу и значение этого диалога.
Первое — это изображение. Оно движется, меняется, подчиняется законам монтажа, пропадает и появляется. Второе — это голос. Хотя голос не обязательно принадлежит человеку. Он может оказаться шумом ветра или звуком дождя, ревом или криком. Их наложение дает кино.
Многие думают, что голос исходит из изображения. Они поддерживают друг друга, пытаясь убедить нас в реальности происходящего на экране. Человек открывает рот, и мы слышим: «А». Или «Здравствуйте». Или «Руки вверх!»
Но это не всегда так. Голос может вовсе отрицать изображение, или спорить с ним, заменять его, или придавать ему особую структуру. То же самое с изображением. Изначально оно не нуждается в голосе, но вполне может подчиниться ему, попасть к нему в рабство. Однако их союз, скрепленный волей автора, способен на чудеса. Преображая реальность фильма, расширяя его границы, этот союз создает поэму, привычную и одновременно непохожую на те, что известны нам по изящной словесности.
Это история о трех поэмах, созданных голосом и изображением.
Первая поэма. Вихрь ощущений. На экране мелькают выцветающие кадры с детьми, женщинами и деревьями. По камням струится вода. Детский концерт. Бородатые мужчины идут по улице. Города: Москва, Рим, Нью-Йорк. Изображение становится синим. Мальчик встал на голову. Девочки беззвучно играют на скрипках. Кто-то смотрит в камеру. Наступила зима.
Порой в кадре появляются загадочные интертитры. Выписки из дневника, случайные отрывки, которые ничего не объясняют, только задают тон. Иногда радостный, иногда мрачный. Все эти бесконечные люди. Знают ли они об одиночестве в городе? Можно ли найти среди них живую душу?
Памятник Маяковскому. Голова колосса Константина. Цветы в поле. Цветы в комнате. Уличный музыкант.
За кадром раздается голос. Голос автора. Он читает стихи. В стихах все спят, и только режиссер у себя в комнате выполняет свою таинственную работу. И точно: разноцветные кусочки хроники то и дело обрываются, чтобы показать зрителям работу автора за монтажным столом.
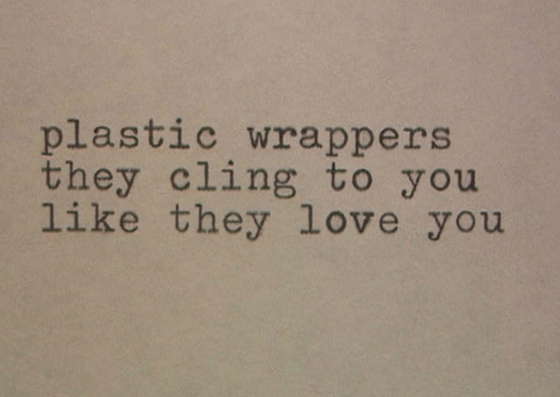 Кадр из фильма «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека»
Кадр из фильма «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека»Все это многообразие — «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека» Йонаса Мекаса. Соблазнительнее всего назвать их скоплением сентиментальных воспоминаний, а просмотр этого фильма сравнить с путешествием сквозь чужую память. Чужие дети, чужие друзья, чужие пикники и поездки на отдых. Каша из домашнего видео постороннего человека.
Но это не так. Голос режиссера за кадром восстает против такого подхода. События давно ушли, память о них стерлась. Осталась только выцветающая красота кадра. Вырванная из контекста, она значит лишь то, что значит. Ничего другого. И только голос автора направляет наше внимание, придавая потоку изображений определенную форму и настроение.
Лирическое присутствие автора — это то, что превращает огромное скопление кадров в фильм. Отрывочное и субъективное он делает очень личным, понятным каждому зрителю. Вероятно, так и работает настоящая поэзия.
Иначе построен «Рай» Алена Кавалье. В «Раю» тоже много личного, в нем тоже много поэзии, а голос автора обогащает изображение.
Вот гостия, вместо цветка возложенная на какое-то растение. За кадром Кавалье вспоминает о почти мистическом чувстве, которое он испытал во время первого причастия.
Вот красивая девушка. Она перебрасывается с автором цитатами и ассоциациями на античные и библейские темы. Встань и иди. Ахиллесова пята. Чудесный улов. Колосс на глиняных ногах. Чресла Юпитера. Торговцы в храме… Это игра, но ведется она с самым серьезным выражением лица. Серьезность эта настолько велика, что за ней начинает проглядывать… не ирония даже, а какая-то особенная форма веселья. Нечто подобное двигало средневековыми авторами — вроде того, что написал «Киприанову вечерю», в которой огромное количество библейских персонажей собиралось на фантастический пир некоего царя Иоиля в Кане Галилейской.
Как на пиру Иоиля, в «Раю» действует целый ворох мифологических и библейских персонажей, среди которых Калипсо, Исаак, Одиссей, Сатана, Иисус Христос, Афина, Саваоф, Иов многострадальный и блудный сын. Однако Одиссея играет маленький красный робот, Афина — это фигурка совы, а Христос — который у Кавалье оказывается вовсе не сыном Божьим, а просто хорошим человеком, — чашка.
 Кадр из фильма «Рай»
Кадр из фильма «Рай»Контраст между предметами и их ролями, между изображением и голосом создает странное чувство, словно ты наблюдаешь за детской игрой. Собственно, «Рай» — это серьезное размышление и игра одновременно. Даже набор героев намекает не только на возвышенную традицию, но и на программу классической гимназии, в которой изучают латынь, Закон Божий и греческую классику. Берясь рассуждать о природе рая, Кавалье помнит: чтобы войти в Царствие Небесное, нужно оборотиться и стать как дети.
И, что важнее всего, метод Кавалье работает. Разыгрывая свои священные аллегории посредством робота, совы и заводного гуся и погребая маленького мертвого павлина, он вдруг находит нужную, очень человеческую и при этом очень точную интонацию. Безумие и дурашливость его фильма священны — вне зависимости от истинного положения дел в небесной канцелярии.
Хотя выводы, к которым Кавалье приходит, очень просты, как и во всякой мистической истории, поиск ответов здесь гораздо важнее самих ответов. А когда маленький красный робот вылезает из арбуза на камешки, а голос за кадром начинает произносить монолог царя Итаки, ты хоть на минуту, но начинаешь верить, что перед тобой Одиссей, познающий природу бессмертия.
Третья поэма — самая радикальная. Перед зрителем — модернистские здания, ничем не примечательная сельская местность, горы, леса, река, лесопилка и французские метеорологи, заснятые на просроченную 16-миллиметровую пленку при помощи экспериментальных вертящихся камер.
Здесь тоже есть голос. Изображение озвучено фрагментами из «Катакомб Молуссии» — единственного романа немецкого философа Гюнтера Андерса. В большей части отрывков некие Оло и Йегусс ведут между собой вполне сократические беседы. Это фильм Николя Рея «Иначе, Молуссия» (точнее «Anders, Molussien», где немецкое «anders» — прозрачный намек на Гюнтера Андерса).
 Кадр из фильма «Иначе, Молуссия»
Кадр из фильма «Иначе, Молуссия»Фильм Рея состоит из девяти катушек пленки разной длины, которые могут демонстрироваться в произвольном порядке. На восьми катушках записаны фрагменты романа Андерса, девятая служит интерлюдией.
Роман Андерса, написанный в 1932—1936 годах, рассказывает о государстве Молуссия, к власти в котором приходит диктатор Бурру. Прототипом Бурру являлся Гитлер, а потому можно усматривать в фильме Рея политический посыл. Диктатура и неравенство на фоне безразличной природы. Разлагающаяся пленка как мир, подточенный злом. Унылые сельские пейзажи говорят о фашизме, модернистские дома отсылают к социальным экспериментам XX века. Да, все это возможно. Но вовсе не обязательно. Вероятно, «Иначе, Молуссия» относится к тому типу картин, любая интерпретация которых остается полностью на совести интерпретатора. Но, как и вообще в поэзии, общее настроение здесь важнее конкретных деталей.
Большая часть диалогов между Оло и Йегуссом напоминает отрывки из произведений Платона, при этом Оло принадлежит роль Сократа (да и некоторые из обсуждаемых героями притч носят довольно отвлеченный характер). Структурно они важны не больше, чем сельские виды, туман или внезапное верчение камеры, которое иногда придает фильму довольно комический оттенок.
Снятые Реем пейзажи только усиливают связь с диалогами Платона — например, с «Федоном», где разговор ведется у ручья под пение цикад. И хотя картинка Рея часто становится немного тревожной, глядя на хрупкую красоту кадра, на все эти бесконечные луга и травы, иногда хочется повторить вслед за Сократом: «…ветерок здесь прохладный и очень приятный; по-летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное — это то, что здесь на пологом склоне столько травы — можно прилечь, и голове будет очень удобно».
Картина — всегда больше того, чем она кажется: она лишь прикрытие. Взгляд ищет убежища в картине. Но время сопротивляется любой возможности убежища. Время может представать как история человечества, страны или одного человека, оно может быть длительностью, оно может выступать как диахрония, разрыв между двумя моментами бытия. Но всегда, когда картина, образ, кадр обещают убежище, звук и слово, существуя во времени, вторгаются в наше сознание и доказывают нам, что любое убежище от нас ускользнет, что укрыться невозможно. Таков один из лейтмотивов программы «Говорящее кино».
Для Унабомбера в «Stemple Pass» Джеймса Беннинга встреча с линейным временем технического прогресса оказывается невыносима. Драма Унабомбера становится драмой невозможной борьбы с этим временем, создаваемым индустриальной цивилизацией. Если раньше время прошивалось повторяющимися производственными циклами сельскохозяйственного труда и религиозными ритуалами, то время капиталистического наращивания прибыли и промышленного освоения природы — это время необратимое, время, идеально фиксируемое неморгающим глазом цифровой камеры. Фильм состоит из четырех получасовых кадров одного пейзажа: холмы, лес, овраг, хижина — в разные времена года, сопровождаемых чтением дневников и интервью террориста-отшельника. Успокоенность взгляда статичными кадрами природы беременна насилием. Стремление Унабомбера найти себе убежище, попытка отторгнуть и сломать время, вторгающееся в его жизнь, оборачивается прерыванием жизненного времени людей, жертв Унабомбера, чьи даты жизни титрами заканчивают фильм.
 Кадр из фильма «Stemple Pass»
Кадр из фильма «Stemple Pass»Унабомбер здесь противоположен лирическому герою «Невошедших кадров из жизни счастливого человека» Йонаса Мекаса, пересматривающему в конце жизни свои кинодневники: интимные встречи с друзьями, случайные сцены на улице, движущиеся образы города и природы. Мекас принимает боль, которую необратимость времени привносит в запечатленные на пленке образы счастья, как необходимую часть этого счастья — как имманентную ему хрупкость. Он тоже выстраивает свое личное убежище — но делает это хитрее, чем Унабомбер: Мекас основывает это убежище в самом ускользании текучего момента.
Но история не только вторгается как неостановимый поток, уносящий драгоценные мгновения: она замирает в настоящем грузом своего постоянного присутствия. В фильме Николя Рея «Иначе, Молуссия» современность, заснятая на просроченную пленку, погружается в толщу исторического времени. На покрытой бликами и зернами пленке мы видим сегодняшний день смутно и словно издалека, как бы сквозь все века истории, приведшие к нему, отброшенные и забытые — но застывшие в самом нашем взгляде. Современность, превращаемая в вечность, оказывается вечной современностью фашистской антиутопии: за кадром читаются фрагменты из антифашистского романа Гюнтера Штерна (Андерса) «Катакомбы Молуссии» (1932—1936). История здесь кончилась, хотя ее присутствие тяготеет над каждым мгновением. Истоки этого мира забыты, и утрата этих истоков — необходимая предпосылка существования в нем субъекта (в том числе субъекта сопротивления): «все мы — незаконнорожденные», звучит фраза в одном из фрагментов фильма. И недаром «Молуссия» не имеет определенного начала и конца (он перемонтируется каждый раз заново из девяти фрагментов), а поведение кинокамеры подчиняется причудам ветра. Но этот ветер — не ветер вольной романтической природы: природа в фильме не является пространством утраченной подлинности, территорией докапиталистического образа жизни и производства, как было в модернистской парадигме и как мечталось Унабомберу. Она обрабатывается промышленными машинами и перемежается автострадами и ЛЭП. Природа — лишь молчащая часть современного однородного мира, скрывающего насилие, классовую борьбу, политические манипуляции и конформизм.
 Кадр из фильма «Страна варваров»
Кадр из фильма «Страна варваров»Невидимый, вытесненный из поля зрения и памяти кошмар исторических фактов — главная плоть другого антифашистского (и антиколониального) фильма программы — «Страны варваров» Ерванта Джаникяна и Анджелы Риччи Лукки. Одной из ключевых фраз этого кино, идущего по следам почти не задокументированной на пленке войны в Эфиопии, развязанной Муссолини и сопровождавшейся использованием Италией химического оружия массового поражения, служит цитата из писателя Итало Кальвино о дуче: «Он затеял столько убийств, от которых не осталось никаких фотографий, но последней оставшейся от него фотографией стала фотография его убийства». Этот афоризм рифмуется с утверждением из «Иначе, Молуссия», гласящим, что материализм изучает невидимые, кажущиеся самоочевидными, как воздух, вещи — например, труд рабочих, который становится заметен, только когда исчезает во время забастовки.
Парадоксом «Говорящего кино» оказывается преодоление оков очевидности средствами кино — этого искусства очевидности. Но для такого преодоления необходим голос, необходима речь — речь, восполняющая невидимое. Сложно не вспомнить здесь о сегодняшней России, где очевидные истины — например, истины о войне на Украине или об экономическом кризисе — подменяются и замещаются другими «очевидностями» самого успокоительного толка. Но призыв к речи в «Говорящем кино» имеет и более широкий трагический смысл: мы существуем в вечной попытке забытья, забытья личного, забытья политического, но речь, эта попытка высказаться, вступить в отношения, не позволяет нам вполне забыться — и вместе с тем не гарантирует доступа ни к какой истине. Она лишь подрывает наш покой, снаряжая нас и обрекая на поиски.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202436790 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202434834 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202437363 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202442696 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202443234 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202445576 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202446393 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202452054 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202451443 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202444808 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials