 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202426472 © Getty Images
© Getty ImagesНи один разговор о коллективной памяти сообществ не обходится без упоминания Германии. В этом ничего удивительного нет: со времен Второй мировой войны немцы добились впечатляющих успехов в развитии мемориальной культуры — и сегодня их пример стал почти хрестоматийной банальностью. В результате может возникнуть впечатление, что все задачи выполнены — память о нацизме и Холокосте сконструирована, мемориалы воздвигнуты, музеи открыты — и остается только соблюдать правильные ритуалы, произносить уместные речи, ходить на актуальные выставки, в общем, всячески «коммеморировать».
Это, конечно, заблуждение. Но в его ловушку периодически попадают и далекие от внутринемецкой публичной сферы иностранцы, и отдельные специалисты по памяти, и даже сами немцы. Книга немецкой исследовательницы Алейды Ассман «Новое недовольство мемориальной культурой» важна прежде всего потому, что напоминает об этом. Предпосылкой рассуждений Ассман служит хоть и очевидная, но склонная уходить на третий план мысль о том, что как «гражданское общество не является чем-то таким, что достигнуто раз и навсегда» и «должно вновь и вновь… подтверждать свою состоятельность», так и память сообщества о чем бы то ни было постоянно нуждается в (ре)актуализации. Другими словами, чтобы помнить — надо регулярно и осознанно вспоминать, и выхолощенных ритуалов для этого не всегда достаточно.
Но эта аксиома служит для Ассман лишь отправной точкой. Задача книги — исследовать природу охвативших немецкое общество сомнений в ценности мемориальной культуры как таковой, но самое главное — проанализировать реальные вызовы, стоящие сегодня перед культурой памяти, и предложить вектор ее дальнейшего развития.
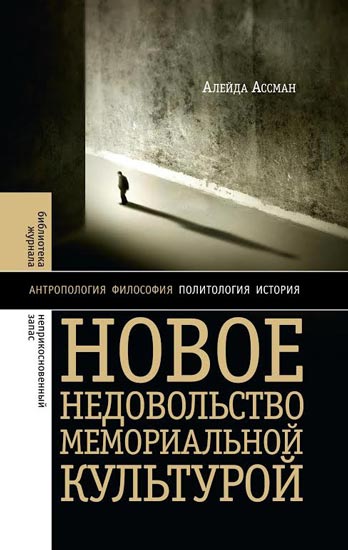 © Новое литературное обозрение
© Новое литературное обозрениеКаркасом — или, по выражению Ассман, «учредительным мифом» — современной мемориальной культуры Германии являются Холокост и, шире, нацистский режим. Осмысление обществом преступлений государства, их критический анализ с позиции жертв ознаменовали собой этический поворот, благодаря которому термин «мемориальная культура» приобрел абсолютно новое измерение. Из понятия, обозначающего «плюрализацию и интенсификацию обращений к прошлому» или — в более узком значении — «освоение прошлого определенной социальной группой», мемориальная культура стала базисом послевоенной системы ценностей, основой самосознания немцев, «несущей опорой гражданского общества».
Германия прошла путь длиной более трех десятилетий, прежде чем утвердилась эта новая система ценностей. После войны немцы провели под прошлым «прагматическую финальную черту»: чтобы адаптироваться к послевоенным условиям и повернуться лицом к будущему, они абстрагировались от собственного прошлого. По мнению философа Германа Люббе, это «коммуникативное умолчание» сыграло важную роль в сплочении западногерманского общества и послевоенном экономическом подъеме страны. Однако такая прагматика, помноженная на впечатления от состоявшегося в 1961 году в Израиле суда над Адольфом Эйхманом, привела к конфликту отцов и детей: так называемое поколение 1968 года обвинило родителей в циничном замалчивании прошлого, тем самым проведя между ними и собой «моральную разделительную черту». Идеологический характер этого протеста — порвав с прошлым, поколение детей отвернулось и от западногерманской демократии, которую винило в забвении военных преступлений, — не позволил трансформировать ценностную систему. Потребовались еще почти два десятилетия, трансляция в 1978 году американского сериала «Холокост» по немецкому телевидению и «спор историков» 1986 года (спровоцированный идеей Эрнста Нольте о том, что расовые убийства нацистов стали логичным продолжением классовых убийств коммунистов), чтобы молчание немецкого общества действительно было нарушено.
Произошедший в результате этих событий сдвиг привел к постепенной деидеологизации прежних дебатов и формированию в 80—90-е годы мемориальной культуры в современном понимании. Ее нормативной основой стали права человека, эмпатия по отношению к жертвам нацистского режима и идея сострадания в целом. Именно это позволило Германии стать частью транснационального (то есть американо-западноевропейского) сообщества памяти, которая направлена в будущее.
«Новое недовольство» немецкой культурой памяти связано, считает Ассман, с двойной сменой поколений. Во-первых, постепенно уходит «эпоха очевидцев», переживших нацизм и Холокост и способных «свидетельствовать» об этом без помощи медиасредств, вследствие чего воспоминания о национал-социализме приобретают все более опосредованный характер. Во-вторых, сменяется «поколение 1968 года», сыгравшее решающую роль в формировании мемориальной культуры, а их дети соотносят себя с немецким прошлым уже по-новому.
Молодое поколение все чаще упрекает родителей в морализации истории: моральный пафос памяти о Холокосте не оставляет пространства для самостоятельных размышлений — шаг в сторону заканчивается если и не расстрелом, то резким общественным осуждением. Ассман приводит пример немецкой телеведущей Евы Херман, которая употребила в эфире выражения «уравниловка» (Gleichschaltung) и «автобан», ассоциирующиеся у немцев с национал-социализмом, чем спровоцировала обвинения в симпатиях к Гитлеру — и свое увольнение. В политкорректности, которая стала причиной скандала с Херман, выражаются, по мнению Ассман, «имплицитные ценности общества». Выступающие же против диктата языковых и прочих табу апеллируют к другой базовой ценности демократической политической культуры — свободе мнений. Ассман не видит противоречия между политкорректностью и плюрализмом: отсылая к динамической природе ценностной системы, автор напоминает о необходимости постоянно, но обязательно через конструктивный диалог и саморефлексию, пересматривать границы общественных норм.
Против политкорректности высказываются и многие историки. Они утверждают, что императивная семантика памяти о национал-социализме сильно усложняет его научное изучение: когда дискуссии между исследователями наталкиваются на барьеры политкорректности и законодательные запреты, научные кадры перемещаются в другие области знания (любовь советских ученых к исследованию Средневековья — ярчайший тому пример). Сложно не согласиться с тем, что «историзация» нацистского прошлого, то есть возможность его свободного, без оглядки на мемориальную культуру, исследования, — задача актуальная. Но с теми, кто под «историзацией» подразумевает, что немцы извлекли уроки из прошлого и настало время его забыть и начать строительство новой идентичности — идентичности на основе позитивных ценностей, Ассман категорически не согласна. По ее мнению, нельзя отождествлять «излишнюю зацикленность на памяти», против которой высказался в недавнем эссе Давид Рифф и которая, на его взгляд, ведет к кровопролитиям и конфликтам, с ответственным сохранением памяти и использованием ее «трансформирующего потенциала». «Мемориальная культура, — пишет Ассман, — включает в себя собственную причастность к вине за совершенные преступления и сочувствие к чужому страданию, поэтому негативное бремя истории может быть преобразовано в прогрессивные ценности».
Поэтому вопрос о том, нужно помнить или нет, для Ассман не стоит. Она уверенно полемизирует с теми, кто сомневается в ценности мемориальной культуры. Но, в отличие от коллег-интеллектуалов, привыкших занимать по отношению к власти критическую позицию и поэтому недовольных все более аффирмативным характером культуры памяти (за институционализацию которой они прежде выступали и сами), Алейда Ассман не скрывает своей убежденности в правильности избранного пути. В этой честности заключается и сила, и некоторая слабость ее позиции: в тех случаях, когда беспристрастный анализ и планомерный разбор аргументации коллег подменяются нормативными высказываниями, возникает ощущение, что Ассман пытается выдать желаемое за действительное. Из-за несколько навязчивой императивности отдельные части книги напоминают манифест гражданского общества.
Это особенно чувствуется в разделе, посвященном действительно актуальным, по мнению автора, вызовам немецкой мемориальной культуре. Один из них — память о ГДР. Ассман пишет: «Настало время, чтобы память о жертвах коммунистического режима, которая остается в Германии преимущественно фрагментарной и приватной, приобрела общеевропейскую значимость». Интеграция памяти о советской диктатуре в мемориальный дискурс вызывает опасение, что, с одной стороны, память о сталинизме тривиализирует память о Холокосте, а с другой, память о Холокосте релятивизирует память о сталинизме. Если мемориальной культуре удастся избежать этих рисков, то она «упрочит европейскую идею прав человека и защитит европейцев… от возврата к автократии». Это утверждение кажется идеалистическим на фоне недавних выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт, одной из федеральных земель Германии, где почти 23% голосов набрали правые популисты (не говоря уже о других правеющих странах Европы).
Как минимум интересна и точка зрения Ассман на то, как культура памяти может помочь в интеграции мигрантов. Могут ли новые иммигранты воспринять и разделить негативную память о Холокосте, конституирующую немецкое гражданское общество? Ассман говорит о необходимости плюрализации мемориальной культуры, включения в нее памяти о дискриминации и гонениях, которые вновь прибывшим в Германию довелось испытать на родине. Воспоминания о своих страданиях должны помочь мигрантам идентифицировать себя со страданиями других «без стирания несхожести разных историй» и тем самым способствовать формированию «эмпатического общества» (термин Джереми Рифкина).
Создать общество, в основе которого будут эмпатия и солидарность, — цель благородная и своевременная. Но реалистичная ли? Способны ли немцы («главное уязвимое место» которых, по мнению Ассман, заключается в равнодушии к «другим», «не своим») достичь ее? Как добиться того, чтобы жертвенная самоидентификация укрепляла солидарность людей друг к другу, но не использовалась для достижения личных и политических интересов? Очевидно, что это процесс долгий и сложный, требующий усилий всех членов общества и задействования всех институтов.
Соблазн наложить трафарет Ассман на российскую действительность слишком велик, чтобы ему не поддаться. В книге предлагается четыре модели обращения с травматическим прошлым. Первой — диалогического забвения — немецкое общество придерживалось в 1950—1960-е годы. Вторая гласит: «Помнить, чтобы никогда не забывать» — и лежит в основе нынешней немецкой мемориальной культуры, признающей (по Ханне Арендт) Холокост откровением абсолютного Зла. Третью модель — помнить ради преодоления — Ассман предлагает применять для работы с памятью о ГДР и в странах, переживающих политический транзит; в данном случае «воспоминание не становится абсолютной нормой», а является социально-терапевтическим средством, перформативным актом «кризисного переходного периода». Наконец, последняя модель, которую автор называет диалогическим памятованием, подразумевает выход на транснациональный уровень: Ассман считает, что диалог воспоминаний европейских государств поможет преодолеть проблемы конкуренции жертв и войн памяти и создать общеевропейскую мемориальную культуру, которая позволит «ослабить монологизм национальной памяти и укрепить транснациональную интеграцию».
Из этих четырех моделей Россия традиционно следует своей. Героизация прошлого сочетается с «репрессивным замалчиванием» и даже периодическим оправданием сталинского террора, как в недавней истории про «Пермь-36» и «эффективность шарашек». В этом контексте открытие в Москве неплохого Музея истории ГУЛАГа не способствует перелому тенденции, а, напротив, заставляет задаться вопросом, не резервация ли это для памяти о сталинизме.
Алейда Ассман считает, что «[в] травматически расколотом обществе путь к правовому государству и социальной интеграции ведет сегодня через работу памяти о массовых преступлениях». Но, в конце концов, Ассман не претендует на роль всезнающего пророка. Может ли принадлежащая XIX веку модель, строящаяся на культе победы и отторжении всего инакового, способствовать укреплению эмпатии, солидарности и уважения друг к другу? Возможно. Но пока наша реальность свидетельствует об обратном.
Алейда Ассман. Новое недовольство мемориальной культурой. Пер. с нем. Б. Хлебникова. — М.: Новое литературное обозрение, 2016
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202426472 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202424785 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202427644 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202433546 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202434101 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202436666 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202437386 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202442973 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202442608 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202438364 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials