 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202427563
В 1979 году оглохший, полуослепший и всеми забытый Варлам Шаламов (1907—1982) попадает в дом престарелых. О том, что с ним происходит в течение следующего года, пока его не обнаруживает там «отмотавший» собственный лагерный срок диссидент Сергей Григорьянц, сведений почти нет. Между тем в Америке славист Джон Глэд (1941—2015), на протяжении семидесятых занимавшийся переводами «Колымских рассказов» и уверенный, что их автор давно умер, с трудом находит издателя, и в 1980 году небольшой сборник избранных рассказов Шаламова выходит наконец в нью-йоркском издательстве W. W. Norton.
Шаламов удостаивается некоторого внимания критики. Среди его рецензентов — компаративист и мандельштамовед Кларенс Браун, тот самый, что в 1966 году по инициативе Шаламова переправил список «КР» в Америку для издания книгой. Книга не вышла, зато через эмигрантский «Новый журнал» Глэд познакомился с поразившей его русской «лагерной» прозой, не имевшей ничего общего с прозой гремевшего тогда Солженицына.
Сборник «Kolyma Tales» попадает в поле зрения известного английского писателя и литературоведа Энтони Бёрджесса (1917—1993), автора гениально экранизированного Стэнли Кубриком «Механического апельсина», и он публикует рецензию на него в июньском номере журнала The New Republic. Ниже ее перевод. Англоязычной публике имя Шаламова ничего не говорит, и задача рецензента — убедить читателя, уже «нахлебавшегося ужасов» ГУЛАГа, открыть книгу не ради ГУЛАГа, а ради изящной словесности, которой все равно, на какой почве плодоносить, хотя бесплодной почвы концлагерей искусство оправданно избегает. Мне кажется, Бёрджесс понимает сложность задачи и хорошо с ней справляется.
В сети электронная версия статьи выложена на сайте архивов книг и периодики UNZ.org.
Дмитрий Нич
Мой друг Роберт Конквест написал книгу о Колыме. Это территория на северо-востоке Сибири, ужасающе холодная и безлюдная, но богатая золотом.
В начале тридцатых ее начали превращать в лагерь принудительного труда. Конквест не уверен, три миллиона нашли там смерть или только два. Мы живем в эпоху, когда о гекатомбах нельзя сказать ничего определенного. Солженицын, предлагавший Варламу Шаламову быть соавтором «Архипелага ГУЛАГ», о Колыме говорит немного. «Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт». Но старый, уставший и больной Шаламов вынужден был отклонить предложение. Его свидетельство о бесчеловечности Колымы содержится в коротких рассказах, превосходно переведенных профессором славистики из Университета Мэриленда Джоном Глэдом.
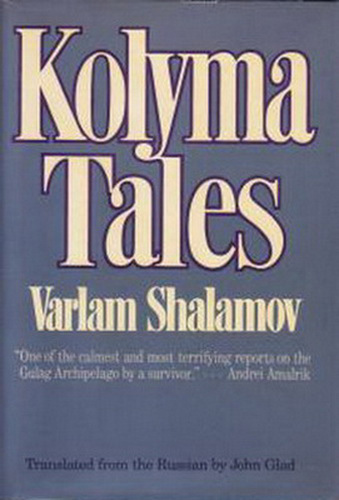
Шаламов родился в 1907 году и начал печататься примерно в то время, когда планы по превращению Колымы в ад для инакомыслящих начали воплощаться. В 1937 году он был арестован за то, что похвалил писателя-эмигранта Ивана Бунина, и семнадцать лет кочевал из лагеря в лагерь. В современном СССР доступна его поэзия, но не проза, которая издана за границей, а в СССР циркулирует в самиздате (как и моя собственная). Поскольку «Колымские рассказы», обличающие жестокость режима, повсеместно вызывают большой интерес, советские власти избегают привлекать к Шаламову внимание прямым преследованием. В России его знают, но только как «поэта природы», в другом качестве его как бы не существует, как и многих других его выдающихся соотечественников.
Эта книга — лишь избранное, но ее достаточно, чтобы дать представление о большом поэтическом таланте, воздействующем посредством того, что Уильям Блейк назвал «мельчайшими деталями». Вот картина еды: «Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро». Обычную для Шаламова скупость средств демонстрирует концовка рассказа «Плотники»: «а послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов — зима уже кончалась».
В новелле «По лендлизу» рассказывается о появлении на Колыме бульдозеров, овсяной крупы и свиной тушенки. «Свиная тушенка по лендлизу, запущенная в лагерный котел, никакого вкуса не имела. Желудки лагерников предпочитали что-нибудь отечественное — вроде гнилой старой оленины, которую и в семи лагерных котлах не разварить». Поношенная одежда для работяг, за которую дерутся «магаданские генеральские жены». Главная ценность бульдозеров — кроме погребения трупов в братских могилах — заключается в солидоле, заокеанском масле, которое с жадностью пожирается заключенными. Вкус сгущенного молока провоцирует такой сон: «Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока — чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко».
 Варлам Шаламов в доме престарелых, 1980© Christine Miletitch
Варлам Шаламов в доме престарелых, 1980© Christine Miletitch«Поэзия — в сострадании», — сказал Уилфред Оуэн [∗] о своих рваных стихах, призванных отразить «окопную правду». Любая литература о чудовищных преступлениях тоталитаризма ставит нас перед проблемой чистоты нашего эстетического восприятия. Гнев, охватывающий нас всякий раз, когда мы читаем такого писателя, как Шаламов, возбуждают и не литературные тексты. Мы знаем, что советская система одинаково страшна и неэффективна, но что мы можем с этим поделать? Обычно неподцензурная проза просто заставляет нас кипеть от ярости, но мы же не можем непрерывно кипеть, остается притушить огонь и не доводить ярость до точки кипения.
В плане содержания как такового у Шаламова нет ничего, что привнесло бы в наше возмущение что-то новое. Мы сполна нахлебались ужасов. Чудо рассказов Шаламова — в стилевых эффектах и художественном отборе, а не в гневе и горечи, которыми они наполняют. Исходные условия представляют собой всеобъемлющую несправедливость, которая не может быть для художника предметом осуждения, и выживание в обстоятельствах, когда смерть предпочтительнее. Перевод Глэда хорошо это передает: «А потом я вспомнил жадный огонь кипрея, яростное цветение летней тайги, пытающейся скрыть в траве, в листве любое человеческое дело — хорошее и дурное. Что трава еще более забывчива, чем человек. И если забуду я — трава забудет. Но камень и вечная мерзлота не забудут».
Нужно, однако, отметить смутное беспокойство, которое появляется у читателя, особенно европейского, когда он слышит русских, изъясняющихся как американцы: «Точняк, сдается мне, это работа какого-то бандюгана» [∗∗]. Американцы вправе пользоваться своим языком, даже изображая на сцене Моисея или переводя Монтеня, но слух европейца этот американский акцент коробит. Это просто нечестно по отношению к Америке. Думаю, сам Глэд допускает, что на нейтральном английском — не на американском и не на языке Британского Содружества — переведенные диалоги звучали бы лучше.
Мы должны быть благодарны ему за знакомство с русским писателем, чьи страдания — вот жестокость искусства — с точки зрения вечности менее важны, чем его талант.
[∗] Уилфред Оуэн — английский поэт, погибший в Первую мировую войну.
[∗∗] Из рассказа «Начальник политуправления».
У Шаламова:
«— Вот я — мне руку сломал боец.
— Боец? Разве у нас бойцы бьют заключенных? Наверное, не боец охраны, а какой-нибудь бригадир?
— Да, наверное, бригадир».
У Глэда:
«A soldier broke my arm».
«A soldier? Can it be that our soldiers beat the prisoners? You can't mean a guard, but some convict work gang leader».
«Yeah, I guess it was a work gang leader».
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202427563 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202425812 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202428628 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202434494 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202435052 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202437610 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202438334 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202443916 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202443537 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202438927 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials