 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202432554
Евгений Осташевский (Eugene Ostashevsky) родился в 1968 году в Ленинграде, в 1979 году вместе с родителями переехал в США, сейчас живет в Берлине и Нью-Йорке. Автор трех поэтических книг: «Iterature» (2005), «The Life and Opinions of DJ Spinoza» (2008), «Enter Morris Imposternak Pursued by Ironies» (2010). В 2006 году составил и перевел (совместно с Матвеем Янкелевичем) антологию поэзии ОБЭРИУ («OBERIU: An Anthology of Russian Absurdism»), в 2013 году — сборник текстов Александра Введенского («An Invitation for Me to Think»). Новая книга Осташевского «The Pirate Who Does Not Know the Value of Pi» вышла недавно в поэтической серии The New York Review of Books.
Линор Горалик: Женя, при первом прочтении книги меня начала преследовать навязчивая (и не знаю, уместная ли) метафора — что ваш Пират и его Попугай (the Pirate and his Parrot) бороздят, как море, непосредственно пространство поэзии — со всеми его чудесами и чудовищами, ветрами и водоворотами; но позже меня стала мучить другая мысль: что это — море языка, его вязкая и волшебная вода. Есть в этом какая-то доля правды? И тогда — кто они, ваши П. и П.?
Евгений Осташевский: В поэзии или в языке… Ну, этой разницы я не ощущаю. Язык как переменчивая субстанция и поэзия как переменчивая субстанция — это ведь одно и то же. Если что-то «плавает» в поэзии — это не значит, что они «плавают», скажем, в Пастернаке или в Цветаевой. Это они плавают в том, как слова переходят друг в друга, — грубо говоря, они плавают в Оксфордском историческом словаре. А кто они — я не знаю. Это как у Введенского: может быть, это три тапира, а может быть, и нет.
Горалик: Словарь — штука довольно точная, вернее, у словаря есть некое целеполагание, есть система, структура; в конце концов, словарь — справочное средство. Если они плавают в словаре, мы переходим к вопросу об игре с точностью и неточностью на протяжении всей книги — игре с той, собственно, математической точностью, к которой Пират оказывается не способен, и в какие-то моменты Попугай ему ее навязывает, а в какие-то — наоборот, подыгрывает Пирату с его растерянностью. Как соотносятся поэзия с ее склонностью к аморфности и текучести — и все, что связано с точностью, жесткостью, твердым каркасом?
Осташевский: Мне кажется, что словарь — это не совсем точная вещь; скорее, он — попытка описания. И порядок в словаре, на самом деле, абсолютно случаен, а какие-то слова в словарь попадают, какие-то — нет. Проблема с точностью похожа на проблему с истиной вообще: точность контекстуальна, она зависит от оптики, от рамки, от уровня — как это сказать по-русски? — rigor. То есть всегда можно будет задать вопрос, на который не будет ответа в выбранной нами системе. Точность всегда окажется неточной, нужно только микроскоп взять посильнее.
Горалик: Мне кажется, ровно это происходит в тот момент, когда Попугай, как раз склонный к некоторому педантизму, говорит: «You lost the language game» — а Пират отвечает: «But I was playing another language game all along». В каком-то смысле эта книга и каждый момент текста, взятый отдельно, — это требовательная языковая игра автора с читателем. Кто идеальный партнер для вас в этой игре? Кто тот человек, который должен сидеть по другую сторону доски?
Осташевский: Попугай! В какой-то момент, копаясь в Оксфордском словаре, то есть в вариациях орфографии XV века, я заметил, что написание слов pirate и parrot было идентичным. Пират и Попугай в некотором смысле были одним лицом. И — если мы представляем себе, что речь идет об иврите, — эти слова с их PRT оказывались как бы однокоренными с party, port…
Горалик: И, в конце концов, parting.
Осташевский: Да, parting. Что мне нравится в языковых играх (ну, мне многое нравится в языковых играх, но и это тоже) — это помесь абсолютной случайности (эти две вещи звучат одинаково, пишутся одинаково или есть рифма между ними, но это абсолютно случайно) с полной и тотальной необходимостью. Ты смотришь на эту случайность и думаешь: «Может, она и не случайность, может, в ней и содержится самая суть». Тут непонятно, что первичнее: что «пират» и «попугай» пишутся одинаково или почти одинаково — или что они пишутся как port, parting и так далее. Может, это все по-настоящему одно и то же, а может быть, это все абсолютно разное и скрепляет их чистый бросок костей языка.
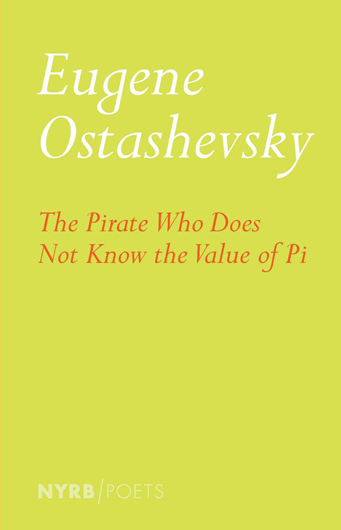 © NYRB Poets, 2017
© NYRB Poets, 2017Горалик: Откуда это все, Женя? Откуда эти отношения с языком?
Осташевский: Ну, у нас у всех странные отношения с языком. В том, как сейчас пишут по-русски, есть установка на ту археологию истории, которая осталась в языке. А для меня, поскольку я пишу по-английски, такого типа историчность невозможна: я не могу говорить о моей истории по-английски, потому что моя история по-английски не существует. Но я могу говорить о том чувстве языкового и культурного непонимания, которое всегда со мной как с человеком современным, все время меняющим города, страны и языки.
Горалик: Вы много преподаете — причем преподаете те вещи, которые как раз не очень поддаются жесткой систематизации. Мне всегда казалось, что человек, желающий действительно получить пользу от преподавателя гуманитарного знания, обязан быть heavily involved, у него должно что-то быть от языковой обсессии — а в противном случае он просто тонет в бесконечном бурном море языка. Что говорит ваш преподавательский опыт?
Осташевский: Это именно так, потому что литературное знание — оно эмоционально, литературу нужно чувствовать своим опытом. Я понял это, как раз когда я стал серьезно преподавать — в частности, когда я стал читать мой любимый курс, своего рода ликбез для первокурсников: Гомер, Данте, китайская классическая поэзия и так далее. Скажем, я говорю с ними о Вергилии, о его IV книге. Им 18—19 лет, а IV книга Вергилия — самая главная любовная книга западной литературы, она кончается самоубийством Дидоны. Это книга о травме и об эмиграции, в ней встречаются два беженца: Дидона, которая бежала из Финикии со своим народом, потому что убили ее мужа, и Эней, который, в сущности, предводитель беженцев из Трои. Дидона все время оглядывается на прошлое, она знает, что влюбляется в Энея, потому что это напоминает ей о том, как она влюбилась в своего первого мужа. А Эней в какой-то момент обращается лицом к будущему — и оставляет Дидону позади. Главный образ прошлого у Вергилия — это шрам, увечье. Так вот, очень интересно смотреть, кто в группе 18—19-летних учеников это понимает. И смотреть, как одни сидят и почти плачут, а другие говорят: «I don't understand what the big deal is».
Горалик: «Почти плачут» — это большое преподавательское достижение, я не иронизирую сейчас.
Осташевский: Ну, некоторые люди часто плачут.
Горалик: Некоторым людям так повезло, да.
Осташевский: Да — и это странно. Потому что сам я стал думать об эмоциях только, наверное, после сорока. По крайней мере, точно после тридцати семи. До этого я о них особенно не думал — например, когда писал «Спинозу». Я думал о разных языковых системах, от математической логики до языка, и о том, как они не совпадают. А в «Пирате и Попугае» намного меньше мышления о рациональном и намного больше мышления, если так можно сказать, о животном.
Горалик: Есть какое-то физическое, физиологическое ощущение разных языков в голове?
Осташевский: Кажется, почти любой билингв ответит, что языки в голове живут по-разному. В науках о языке ведутся споры о том, что это ощущение может значить и вообще — истинно оно или нет: от полного отрицания всего этого в лингвистике Хомского и до разных форм теории Сепира—Уорфа, ее как бы грамматически-антропологических версий. Лично у меня почти всю жизнь было ощущение, что русский и английский ощущаются внутри по-разному, потому что я сам ощущаю себя разными людьми, когда на них говорю. Это вполне соответствует лингвистической теории Сепира—Уорфа; для меня в ней есть, наверное, доля правды — но мне кажется, что намного важнее разница между антропологическим и культурным аспектами языков. Разделение, которое мы делаем между языком и культурой, в принципе неправомерно, а то, как я ощущаю себя в языке, очень сильно зависит еще и от той истории, от тех типов человеческих отношений, от той политики, которые вмонтированы если не в грамматику языка, то в мою личную языковую практику. Тут проявляется огромная разница между абстрактной грамматикой языка и словесным запасом, с одной стороны, и речью, parole, языком как прикладным инструментом. Это ощущается очень непохоже в каждом из языков, потому что речь всегда встроена, вмонтирована в культуру и в исторический момент, вмонтирована в тот возраст, в котором вы находились, когда этот язык для вас был главным, в то, как вы тогда жили и что делали.

Горалик: Вам доводилось ловить себя на том, что, когда делается поэзия, она происходит и во рту тоже? У вас есть физическое переживание писания стиха?
Осташевский: Да!
Горалик: Какое?
Осташевский: Мне нужно находиться для этого в определенном типе невротического состояния, когда я уже не могу думать ни о чем другом. Сейчас я мало пишу, потому что, когда у тебя двое детей, работа и прочее, ты просто не можешь это состояние себе позволить.
Горалик: Говоря о семье: история Пирата и Попугая вполне может читаться как довольно мучительная и трагическая история о симбиотических отношениях. Эти двое, как мне показалось, состоят в по-своему жестоком симбиозе, построенном не так на взаимном присутствии, как на взаимной игре в требования и на невозможности эти требования полностью удовлетворить.
Осташевский: Это еврейская семья такая. Живут они на необитаемом острове, откуда им — естественно — некуда деться.
Горалик: Невольно начинаешь думать о триангуляции, когда два человека с трудом могут говорить друг с другом, как в тяжелом браке, и выбирают третий предмет, «о который» общаются: ребенка, например. У меня есть впечатление (и так мы возвращаемся от темы эмоций к теме языка), что таким объектом разрядки тут оказывается язык.
Осташевский: Скорее, сама возможность внеязыкового понимания. Там, на острове, главная тема разговоров Пирата и Попугая — если бы здесь были туземцы, смогли бы они с этими туземцами объясниться, понять их и быть ими понятыми. Это как бы о разных моделях другого, the Other.
Горалик: Более того, вы в какой-то момент задаете вопрос, можно ли логически верифицировать существование этих самых туземцев. К какому ответу человек, играющий в вашу языковую игру, должен прийти?
Осташевский: Не знаю — остров-то необитаемый. Вообще вся метафора туземцев идет, как это ни смешно, от эмиграции, из третьей волны. Когда моя семья уехала в семьдесят девятом году, я был маленьким — мне было 10—11 лет, — но это была совсем не такая модель эмиграции, как сейчас: возвращение было невозможно. Каждое лето мы ездили на два месяца в Катскиллские горы под Нью-Йорком и жили в маленьких поселениях бунгало. Там существовал свой собственный русский язык — там, например, читался «Новый американец», а самих американцев друзья моих родителей называли туземцами. Поэтому, когда у Бродского в «Новом Жюле Верне» появляются дикари, которые играют на укулеле и говорят «хуле-хуле», — понятно, о ком идет речь. А в моей книжке есть одно место, где это говорится — очень непрямым текстом, но, по крайней мере, цитатой из Уильяма Карлоса Уильямса: у него есть стихотворение «К Элси» — о людях, которые живут в глубинке. Его Элси (она, по-моему, была служанкой) принадлежала к прослойке чудовищно бедных белых, перемещенных американцев, живущих в горах. Стихотворение начинается со слов «The pure products of America go crazy…», и одну строчку из этого стихотворения я вмонтировал в нужное место в книге. Иными словами — в моей игре есть отгадка, но она очень сложная.
Горалик: К вопросу о возможности понимания: я довольно быстро поняла, что не могу читать вашу книгу с планшета, потому что ее визуальная составляющая так важна, что для полноценного восприятия мне нужно держать в руках конечный трехмерный объект. Тогда, например, становятся виднее важные вещи: от специфической разметки в духе сократических диалогов до иллюстраций. Про что это?
Осташевский: Прежде всего, эта книжка существует не как один объект визуальный — их несколько. Для полной версии, изданной New York Review of Books, визуальные образы были созданы моими друзьями Женей и Аней Тимерман на основе одной ренессансной книжки, которую я использовал: «Ornithologia» за авторством Улиссе Альдрованди. Но есть еще намного более визуальная версия первой дюжины стихотворений — она и называется «The Pirate Who Does Not Know the Value of Pi. Часть первая». Ее тоже сделали Тимерманы, но с другими образами. А некоторые буквы в ней другого размера. Это те буквы, которые существуют и в латинице, и в кириллице, и ими написан текст по-русски (этих букв мало, ими очень трудно писать).
Горалик: Спросить, что это за текст, или не спрашивать и оставить и это игрой?
Осташевский: Ну, конечно, оставить и это игрой — но его очень трудно прочесть. Есть еще немецкая версия книжки, она вышла только вчера — и она вообще другая и сделана другими художниками, но главное — она билингвальна. Ее переводили Ульяна Вольф и Моника Ринк, немецкие поэты, с которыми я дружу, — они приступили к работе до того, как я закончил писать оригинал. В результате последняя версия концовки книжки целиком посвящена теме перевода. Может быть, она и так была бы вся о переводе, но я писал с сознанием того, что это — книжка о непереводимости, которую переводят в этот самый момент и поэтому ее надо сделать еще более непереводимой. Или, наоборот, разрешить переводчицам что-то перевести. Так что велась игра еще и с переводчицами — игра, отразившаяся на фабуле самой книги.
Горалик: И тут мы, возвращаясь к теме точных и неточных наук, получаем описанный в квантовой физике эффект наблюдателя.
Осташевский: Да.
Горалик: Мы говорим об игре, в которую заведомо трудно играть, так что автор может остаться единственным игроком, потому что его коды, его шифры никогда не будут разгаданы. Мне кажется, что почти у каждого ребенка определенного склада было интеллектуальное guilty pleasure, какая-нибудь немыслимая и сложносоставная игра с самим собой. И у меня есть чувство, что у вас такая игра очень даже была. Можно спросить о ней?
Осташевский: Я не очень хорошо помню детство, потому что на него наложился другой язык; но, в первую очередь, я очень много читал — и все время воображал себя в том, что читаю.
Горалик: Текстом? Картинками? Как-то еще?
Осташевский: Включением самого себя в рассказ — а вот текстом или картинками… Я думаю, что точных картинок не было, а были просто ощущения — как бывает во сне. Нечто среднее между визуальным и телесным.
Горалик: То есть те самые «эмоции»?
Осташевский: Наверное, да — наверное, это они и есть.
Горалик: Вы сказали, что пусть и поздно, но начали «думать про эмоции». При помощи какого инструментария? Просто вы кажетесь мне человеком, который, берясь думать о чем-нибудь, старается думать об этом чем-нибудь системно и исчерпывающе.
Осташевский: Здесь есть два важных момента. Один — исторический: я почему-то вырос, думая, что люди рациональны. Когда у меня родился ребенок (может быть, даже незадолго до этого, но это стало окончательным моментом), я понял, что рациональностью в людях даже не пахнет. Что рациональность — это один из очень многих человеческих инструментов — вроде молотка, но есть еще и дрель, и многое другое. А второй момент был абсолютно хармсовский (причем в то время я писал статью о математике у Хармса): моей старшей дочке было года два с половиной — три, она была в Германии, я был в Штатах, и я ей по скайпу все время читал «Ten Apples Up on Top» Доктора Зойса, про числа. Я писал про хармсовский «Сонет» (где мы забываем, что идет после шести — семь или восемь); я приступил к работе, думая, что это невозможно не знать, что порядок чисел — вещь абсолютно точная, абсолютно логичная и абсолютно понятная всем. И вот я пытаюсь объяснить его своему ребенку — и терплю полный крах. Ей реально нужно было запомнить, как персонажам Хармса, какое слово идет после какого, какое слово идет после слова «шесть».
Горалик: Это было про номены или про саму логику счета?
Осташевский: Я думал, что про логику счета, — но оказалось, что нет никакой логики счета. Я бился несколько дней, пытаясь по интернету объяснить дочке, почему семь идет после шести.
Горалик: Как?
Осташевский: Самым простым способом — на пальцах. Вот шесть пальцев, потом еще один палец — сколько будет пальцев? И никак. У Декарта это абсолютно чистые понятия, это категория идей, в которых, казалось бы, невозможно сомневаться, это само основание рационализма — а вот нет. Так и выяснилось, что рационализм — это молоток, а есть еще и дрель.
Горалик: Это было больно?
Осташевский: Это был большой шок — но в некотором смысле это меня, может быть, чуть-чуть освободило. Я перестал расстраиваться, что я такой иррациональный. Многие вещи стали понятнее. И я стал думать об эмоциях и словах, о роли описания в эмоциях. Ведь именно в этом месте в кадр входят история и культура. Например, почему у людей разных периодов и культур разные психологические заболевания. Мы не можем знать, чувствуют ли они, скажем, любовь одинаково или по-разному — но это точно другая любовь. То, какими словами они называют эту эмоцию, не просто ее описывает — оно ее материализует, но в процессе она становится совершенно иной.
Горалик: Но, усомнившись в рациональности универсума, человек должен в некотором смысле усомниться в плодах своих рационально выстроенных трудов. Как чувствует себя переводчик, причем переводчик вещей крайне сложных и зачастую не поддающихся рационализации (в том смысле, в котором ее понимают любители простых нарративов), когда пишет книгу о непереводимости?
Осташевский: Не могу сказать, что мои открытия расстроили меня как переводчика, потому что я абсолютно не воспринимаю свои переводы как нечто дефинитивное: всегда можно сделать иначе, всегда можно сделать лучше. Мой Введенский — это то, как я облек свою реакцию на Введенского в английский язык, в английские слова. Мне кажется, что перевод, особенно перевод в поэзии, — это ответ в разговоре, ход в той самой языковой игре. Это не реплика, которая может собой заменить оригинал. Когда мы читаем перевод какой-то вещи — тем более очень языковой вещи, — мы знаем, что получаем далеко не все, заложенное в оригинале. Переводу нельзя полностью доверять, это рассказ путешественника о небывалой стране, рассказ пирата на необитаемом острове о других, якобы существующих, далеких землях. И это хорошо, потому что, если бы все было переводимо, структура мира была бы чрезвычайно неинтересной. Знаете, в средневековой философии существовал расхожий постулат, что Бог — это сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Если так, то Вселенная — это не universe, а multiverse, множественность. Так вот, непереводимость — первый критерий для существования множественности Вселенной.
Горалик: При чтении сильного перевода всегда думаешь, что вот они, те самые симбиотические отношения — мы наблюдаем их между автором и переводчиком: последний вступает с первым в некую невыносимо сложную общность — вот как ваши Пират и Попугай — и, как в любых симбиотических отношениях, постоянно занимается попытками читать мысли, угадывать интенции...
Осташевский: Потому что перевод — это любовь.
Горалик: Вот про это можно?
Осташевский: Естественно, под словом «любовь» мы все имеем в виду очень разные вещи, но, скажем, мне, чтобы любить другого человека, нужно пытаться его слушать и пытаться понять, не навязывая ему свои предвзятые идеи, свой нарциссизм. Этого-то мы, в принципе, и хотим от идеального перевода.
Горалик: Как этого добиться?
Осташевский: А это невозможно. Но можно пытаться.
Горалик: Это же чудовищно фрустрирующий процесс? История про Ахилла и черепаху — в какой-то мере история и про перевод: вечная погоня за некоторым недостижимым совпадением, слиянием.
Осташевский: Перевод, как и любовь, — то, что мы делаем, потому что конечны. Как в сюжете с Вавилонской башней: если бы существовали слова, не нуждающиеся в переводе, то они прожигали бы собой бытие, они служили бы абсолютным языком для абсолютной любви. Тогда вообще не было бы нужды в узнавании другого, Иного, потому что никакого Иного бы не было, there would be no other.
Горалик: И, мне кажется, there would be no poetry.
Осташевский: Then there would be no poetry, да. Все пели бы одну только букву А.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202432554 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202430679 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202433187 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202438764 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202439318 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202441718 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202442538 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202448143 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202447643 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202442514 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials