 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?
Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202329171 © Colta.ru
© Colta.ruВ самом начале XXI века в Бостоне было два русских книжных магазина. Они, эти два магазина, находились друг с другом в состоянии вечной холодной войны, прерывающейся иногда открытыми боевыми действиями. Например, если один из магазинов устраивал вечер поэта Гандлевского, другой непременно в тот же вечер организовывал чтения поэта Гандельсмана. За несколько дней до этого события сторонники каждого из магазинов — а у каждого была группа верных сторонников — начинали обзванивать своих знакомых и объяснять им достоинства Гандлевского и его преимущества перед Гандельсманом. Или наоборот. Люди ссорились, переставали здороваться друг с другом при встрече, расходились навсегда. Разумеется, сами поэты не имели ни малейшего понятия о том, какие страсти вокруг них кипели. Короче, в начале XXI века в Бостоне происходила очень интенсивная русская культурная книжная жизнь.
Оба книжных располагались по соседству с двумя русскими продуктовыми магазинами, которые тоже были друг с другом в непростых отношениях. Не отдавая предпочтения ни одному из продуктовых, я все-таки чаще посещал тот, который был ближе к дому. И всегда заходил в прилегающий книжный, чтобы взглянуть, что нового привезли из метрополии. Сейчас мне даже странно вспоминать о том, сколько бумажных книг я тогда покупал и прочитывал.
Там я и нашел эту книжку. Это случилось примерно в начале 2002 года. Книжка была серенькая, в неказистой мягкой обложке. Издана издательством Московского художественного театра. Такие книги обычно издают за собственный счет непрофессиональные авторы, чтобы подарить друзьям и родственникам. Я бы даже не стал ее открывать, но фамилия на обложке показалась мне смутно знакомой.
И тут я вспомнил, что не так давно я прочитал статью Сьюзен Зонтаг в «Нью-Йоркере» про то, как в Лондоне, на книжном развале на Черинг-кросс-роуд, она откопала роман никому не известного русского автора в английском переводе, который она «ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений прошедшего века, полного литературы и литературности — в самом широком смысле этого определения». И вспомнил, как я тогда удивился и как набрал по-русски в Yahoo (я, кажется, тогда еще пользовался Yahoo) имя и фамилию этого писателя — Леонид Цыпкин. И абсолютно ничего не нашел. И удивился этому еще больше. Все это напоминало какой-то рассказ Борхеса с биографией несуществующего автора и подробным пересказом его так и не написанного великого романа. Я, кажется, тогда это все примерно так и воспринял.
И вот я держал этот роман в руках. Он был короткий, чуть больше ста страниц, и назывался «Лето в Бадене». Еще в этой книге были несколько коротких повестей и рассказов и предисловие сына автора. В нем рассказывалось о судьбе отца, и, видимо, именно этим предисловием пользовалась Зонтаг в своей статье. Предисловие было коротким и, как бы это сказать поточнее… Душераздирающим. Книжка вышла в 1999 году, за два года до того, как попала ко мне в руки. Никто из моих тогдашних знакомых не слышал ни про нее, ни про этого писателя.
 © Леонид Цыпкин
© Леонид ЦыпкинЯ прочитал роман за несколько часов и был как будто обожжен. Это была проза такой степени интенсивности, что должно было пройти несколько лет, прежде чем все, прочитанное после этой книги, перестало мне казаться каким-то пресным.
Я тогда же написал про это в «Живом журнале». Мне пришел комментарий от литературоведа из Калифорнии Андрея Устинова. Он писал, что ко мне попал сокращенный вариант романа, изданный в России сыном автора с помощью своей бывшей однокурсницы. Что тираж книги всего 500 экземпляров, 450 из которых были разосланы Соросом по провинциальным российским библиотекам, так что я оказался обладателем библиографического раритета. Еще он писал, что готовит в России новое, полное, издание, и обещал, что книга будет с книжных полок сметена.
Книга действительно вышла в России через год, удостоилась нескольких вялых рецензий и прошла совершенно незамеченной массовым читателем. Единственным исключением можно назвать умную и глубокую статью той самой бывшей однокурсницы сына — кинокритика Зары Абдуллаевой. В ней она, кстати, вспоминает, как ни одно издательство в России не хотело этот роман печатать. На переиздание романа через 10 лет, кажется, тоже никто не обратил особого внимания.
Сейчас, если спросить о «Лете в Бадене» профессионального читателя, то есть человека, так или иначе причастного к литературе, он(а) обязательно скажет тебе: «О да, я, конечно, его читал(а), это прекрасная книга». А если спросить просто читающего по-русски и интересующегося литературой человека, он(а) посмотрит на тебя пустыми удивленными глазами и, может быть, вспомнит о другом Цыпкине — Александре, который в сопровождении популярных киноартистов разъезжает по стране и миру с какими-то литературно-эстрадными скетчами.
И даже если просто прогуглить «Лето в Бадене» по-русски, выскочит всего несколько жалких ссылок. По-английски их будут многие десятки, если не сотни. И то, что этот роман является своего рода слепым пятном русской культуры, мне кажется каким-то стыдным недоразумением. В каком-то смысле судьба этой книги повторяет печальную, да чего уж там — трагическую судьбу ее автора.
Леонид Цыпкин прожил на этой земле ровно 56 лет, из которых публикуемым автором он пробыл ровно неделю. По профессии он был врачом-патологоанатомом. Писать прозу он начал поздно, а до тех пор делал вполне успешную советскую карьеру, стал в 42 года профессором, обзавелся трехкомнатной кооперативной квартирой, воспитывал единственного сына, увлекался фотографией, летом ездил в теплоходные круизы…
Защитив докторскую, он увлекся писательством. Каждое рабочее утро ровно без пятнадцати восемь уезжал на работу. Ехать надо было далеко — через весь город. Возвращался всегда ровно в шесть. Обедал, полчаса дремал и садился писать. Прозу свою публиковать не пытался и никому, кроме членов семьи и ближайших друзей, не показывал. Боялся неприятностей со стороны начальства. А еще больше, кажется, боялся снисходительно-покровительственной реакции со стороны статусных советских гуманитариев. И статусных антисоветских тоже.
В 1977 году его сын эмигрировал в США, и все его советское благополучие рухнуло. Начались рабочие неприятности. Ему в три раза сократили зарплату, лишили возможности нормально работать. На службе коллеги боялись к нему подходить. Обычная для тех времен история.
Только по милости директора института, который хорошо к нему относился, его держали на работе. Он попытался уехать вместе с женой вслед за сыном, но тут как раз накатила волна отказов. За четыре месяца до смерти он закончил роман о Достоевском — «Лето в Бадене» и через друзей переправил его к сыну в Америку.
В Америке сын изо всех сил пытался напечатать роман отца. Ни один толстый эмигрантский журнал печатать его не захотел. Наконец ему удалось пристроить фрагменты романа в эмигрантскую «Новую газету». В день, когда они были напечатаны, Цыпкина выгнали с работы. А еще через несколько дней у него был день рождения. На дворе стоял андроповский 1982 год. Ему исполнялось 56 лет. С утра он засел за технический перевод. Для них с женой, которая давно уже сидела без работы, это оставалось последним источником дохода. Днем ему стало нехорошо. Он прилег на диван. Жена суетилась на кухне, готовила его любимое блюдо. Через пятнадцать минут он умер.
В 2001 году книга вышла в английском переводе. Когда Сьюзен Зонтаг нашла ее на книжном развале на Черинг-кросс-роуд, автор был уже почти двадцать лет как мертв. Если говорить о личной биографии Цыпкина, то это не просто несправедливо, а даже как-то чудовищно. Если говорить о его книжке, то тот факт, что ее в конце концов прочли, является не чем иным, как настоящим чудом. Потому что булгаковское «рукописи не горят» — это утешительная ерунда. Как будто бы не было Александрийской библиотеки. Горят, и еще как! А сколько еще не сгоревших и даже когда-то опубликованных, которых просто никто никогда толком не прочел.
* * *
Вот странное совпадение: в семидесятые годы в России были написаны три небольшие, но по-настоящему грандиозные книжки, рядом с которыми в отечественной словесности мало что можно поставить. Все три завязаны на железнодорожную метафору — с железной дорогой, поездом, веткой электрички, железнодорожным путешествием. Это «Москва — Петушки» (1970), «Школа для дураков» (1973) и «Лето в Бадене» (1977–1981). Две из них вошли в культурный канон всякого интеллигентного русского человека. Третья остается пока где-то на отшибе. И сейчас, когда мы все по независящим от нас причинам заперты по домам, мне кажется, наступило то время, когда эта книга должна быть наконец прочитана.
Книга начинается с того, что рассказчик садится в дневной поезд Москва — Ленинград и открывает старое, двадцатых годов, издание дневников Анны Григорьевны Достоевской. Когда-то очень давно он заиграл эту книжку у своей тетки, любовно переплел и зачитал до дыр. Поезд трогается с места и начинает разгоняться, и одновременно с ним — быстрее (я никогда не читал текста, который бы разгонялся так стремительно) — разгоняется повествование.
Сорокашестилетний писатель Федор Достоевский (Федя) отправляется со своей двадцатилетней женой Аней в свадебное путешествие по Германии, и ты, читатель, вдруг одновременно начинаешь видеть происходящее глазами Достоевского, его жены, рассказчика в поезде и собственными глазами. В этой невозможной одновременности, возможно, заключается главное открытие этой книги.
Одновременность достигается за счет одной-единственной технической, если так можно выразиться, инновации Цыпкина: его переосмысления использования тире. Цыпкин пишет длиннющими, по пятнадцать-двадцать страниц, абзацами, состоящими из одного бесконечного предложения. В сущности, это чисто синтаксическая условность. Эти его странные абзацы представляют собой нормальное традиционное повествование, состоящее из множества отдельных предложений, которые разделяются не точками, а тире. Но этот, казалось бы, простой, чисто графический прием дает повести совершенно другое дыхание.
Каждый такой абзац — как будто глубокий нырок: сначала вдох, потом погружение, долгая-долгая задержка дыхания, выныривание, снова вдох, снова погружение. И, как в какой-то предсмертной галлюцинации тонущего человека, рассказчик начинает видеть все из нескольких точек одновременно. История разворачивается сразу в двух-трех временных пластах. Сознание рассказчика расщепляется на множество сознаний. Все происходит как будто слитно, как будто сразу, и в то же время каждая деталь видна с необыкновенной ясностью.
Так, один-единственный абзац вмещает в себя воспоминания рассказчика о юношеской дружбе с человеком, внешне напоминавшим ему Петра Верховенского, — дрезденские метания Феди и Ани — возвращение Достоевского из ссылки — его роман с Сусловой — «Лолиту» Набокова — посещение рассказчиком парка Петровско-Разумовской академии, места убийства студента Иванова, прообраза Шатова из «Бесов», — пронзительную вставную новеллу о Солженицыне (да, он тоже один из персонажей этого странного романа) — и все это только небольшая часть того, что поразительным образом втиснулось в одно предложение, — и — совершенно невозможно остановиться, — и — как-то получается это увидеть и вместить — в паузе между единым вдохом и выдохом.
И все это нагромождение мыслей, фантазий, сцен, сюжетов объединено Достоевским, главным героем романа. Автор умудряется ни на секунду не потерять его из виду. При этом, что особенно удивительно, при всей кажущейся сложности «Лето в Бадене» — очень легкий текст. Он как будто абсолютно не обладает сопротивлением. Скорее, наоборот: самому читателю приходится постоянно сопротивляться его затягивающей, засасывающей, утопляющей силе.
* * *
Мне кажется, одной из главных причин того, что в отечестве эта невероятная книга так и не получила достойной оценки, не вошла в культурный канон, стало то, что литературные критики заранее решили, что главная ее тема — это, выражаясь современным языком, тема культурной апроприации. Автора действительно волнует влюбленная одержимость культурных российских евреев самым, может быть, ксенофобским и антисемитским из великих русских писателей. Эта странная, безответная любовь русских евреев к творчеству человека, который их одновременно презирал и ненавидел. И не просто любовь. Еще с дореволюционного периода практически все крупные исследователи Достоевского были филологами еврейского происхождения. Евреи как бы монополизировали тему.
Автор-рассказчик никак не может разобраться и в своей собственной одержимости Достоевским. В конце концов он приходит к тому же выводу, к которому когда-то совершенно независимо от него пришел Исаак Башевис Зингер, вспоминавший, что, читая «Преступление и наказание» подростком в Варшаве, он решил, что Достоевский — это абсолютно еврейский, даже идишский писатель.
Евреи многие века своей истории выживали в гетто, фактически в подполье, и поэтому не так уж удивительно, что Достоевский, этот певец «подпольного» человека, оказался так близок «подпольному» народу. И очень даже возможно, что сам писатель узнавал в этом народе те самые черты, которым больше всего ужасался в самом себе, и ненавидел его за это.
Тема эта, безусловно, очень занятна, и на эту книгу интересно взглянуть как на изощренную месть профессионального патологоанатома человеку, на голубом глазу писавшему: «…на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно. Уж не потому ли обвиняют меня в “ненависти”, что я называю иногда еврея “жидом”? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово “жид”, сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: “жид, жидовщина, жидовское царство”...»
«Лето в Бадене» — это своего рода вскрытие, анатомический театр-макабр. Главный герой книги — это какая-то несчастная марионетка, которую автор со сладостным садизмом дергает, дергает за ниточки: вот ниточка — неуемная похоть, вот саморазрушительный азарт, вот уязвленное самолюбие, вот ущемленная гордость, страх, мазохизм, паранойя, мания величия… Кукла Федя подпрыгивает в припадочном танце… Да нет, не кукла Федя — великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Тот самый Ф.М. Достоевский, который смог рассказать о человеке и о том, что гораздо выше человека, автору романа, мне, а возможно, и тебе, читателю этих строчек, больше, чем кто бы то ни было еще на этой земле. Ф.М. Достоевский, одержимость которым, влюбленность в которого автор романа до конца не может себе объяснить.
Книга Цыпкина, на самом деле, гораздо шире простой одержимости советского интеллигентного еврея великим писателем-антисемитом. Достоевский много писал и говорил о некой «всемирной отзывчивости» русского человека, о всеохватности русской культуры, о ее способности «все» в себя «вместить». И она, эта книга, есть потрясающая лихорадочная, захлебывающаяся, «достоевская» попытка «все вместить». В одном коротком тексте, в одном абзаце, в одном предложении, в одном вдохе-выдохе.
В конечном итоге, как и всякая великая книга, эта книга — прежде всего, о любви. Роман говорит нам о рассказчике никак не меньше, чем о главном герое. Когда Сьюзен Зонтаг назвала свое эссе о Цыпкине «Любить Достоевского», она определенно не имела в виду только любовь к писателю Достоевскому. Безусловная любовь, любовь, сочетающаяся с трезвым знанием того, что объект этой любви ответил бы на нее в лучшем случае брезгливым, опасливым презрением, любовь вопреки этому знанию — такая любовь и является главной темой романа.
Это роман о любви, переходящей в оБОЖание, которое в русском языке — от слова «Бог». По существу, его следует читать как крайнее выражение того странного свойства, которое называют «логоцентричностью» отечественной культуры, ее оБОЖествление слова — Слова, которое для нее и есть Бог.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202329171 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202257999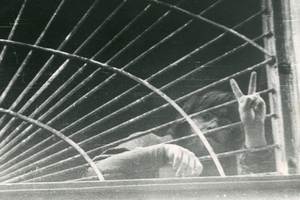 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202274571 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202241586 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 2022102909 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202261073 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202242188