 Искусство
ИскусствоВоображать технологически
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science
2 февраля 20229219Вот тут я понял, как с ума сходят: знаешь про что-то, а доказать не можешь, а тебе пуще жизни это доказать надо, и такой ужас на тебя находит… И то бывает, забудешь про это все, а потом как почувствуешь опять, что мир-то не настоящий и ты в нем один-одинешенек, а кто тебе это показывает…
Л.Г.
Сюжет последнего романа Линор Горалик «Имени такого-то» не впервые идет у нас в писательскую разработку: его рассматривали на гуттаперчивость, например, Герман и Панова, в неподцзензурном пространстве — Всеволод Петров в своей «Турдейской Манон»: через войну идет медсостав (в данном случае это баржа), пытающийся спасти тех, кто не способен к строевой.
Однако Горалик, обращаясь к этому сюжету, наполняет его своим особым материалом — предельным, гротескным, игровым, чудовищным: в ее версии эвакуируют, спасают из/от театра военных действий именно психбольницу. Перед нами производственная драма в аду. К каждой из возникающих творческих задач автор относится с особенным видом любви: как в эксперименте или при операции, пытаясь доводить свое воображение и свой язык до предела возможного (и для нее, и для ее читателя).
Одной из задач здесь является максимально реалистическое воспроизведение представляемой ситуации: перед нами оживают вымышленные персонажи с их страстями и обязанностями, давно, казалась бы, отошедшая от нас история вступает в яростные, увлекательные, паразитические отношения с воображением. Процесс этот вроде бы не нов для литературы российской, но тут возникает особое обстоятельство: Горалик пишет о таком историческом материале, сюжете, о котором писать фикции по-русски в принципе не дозволено, не принято. Историческая катастрофа у нас доверена главным образом литературе свидетельской, и она в абсолютном большинстве случаев есть литература документальная: каким-то образом вырвавшиеся из зон нечеловеческого очевидцы пытаются описать свой опыт с максимально возможным фотографическим намерением.
Наиболее сложным случаем в этом ряду является проза Шаламова: где совершенно достоверный, пережитый материал проходит сложнейшую обработку, превращаясь в высокооригинальное письмо, где смешиваются приемы прозы и поэзии, центона и монтажа.
Однако Горалик позволяет себе дерзость иного порядка: говоря о страшном опыте Другого, о другой эпохе, о давней войне, она пытается себе представить, каким бы могло быть злоключение спасающейся от войны психиатрической больницы, средствами сегодняшнего искусства. Я использую именно этот термин вместо «литература», так как особая роль автора Горалик заключается в ее неуемной способности к эксперименту, гибридизации: поэт по первой своей природе/профессии, она также пишет прозу всех мастей, являясь, в частности, автором популярных книг для детей, изготовляет монструозные (запомним это слово) ювелирные изделия: страшные украшения.
И в данном своем тексте она пытается вступать на территорию не просто сложного, нового, но, как иногда кажется, невозможного: она пишет роман об истории, ей никак «не принадлежащей», до нее не проговоренной, скрытой, табуизированной, как говорил один из самых лукавых моих учителей литературы — «неаппетитной», чего уж там, тошнотворной (заметим, что в этом тексте персонажей постоянно именно выворачивает: их тела не принимают такую судьбу). И тут я хочу затронуть одну странноватую проблему, вызывающую у меня крайне нездоровый и очень живой интерес: в огромном корпусе советской военной литературы мы не сталкиваемся вообще (или сталкиваемся крайне редко) с нецензурной бранью — которая, как мы можем себе представить по разным источникам, неотъемлема от войны хотя бы потому, что предельный опыт порождает предельный язык. В романе Горалик обсценная лексика становится одним из мощных, естественных средств изображения, занимает наконец свое место. Это решение не кажется мне малозначительным: всякое сопротивление ханжеству, ретуши, лжи, нежеланию смотреть и видеть следует приветствовать; в советское время советская война не знала мата по причинам советской цензуры, сегодня — не в последнюю очередь — по причинам пластика (в который заворачивают книги) и глянца, в который очень часто, гораздо чаще, чем нет, завертывают историю войны. По большому счету, это бережное завертывание приводит на сегодняшний день к тому, что белыми пятнами (зонами стыдливого умолчания) являются плен, «коллаборация», судьбы гастарбайтеров inter alia: все, что запрещено к обсуждению официальной историографией путинского периода.
То, на что выбирает смотреть Горалик: военная судьба безумцев и тех, кто пытается их спасти от гибели, — является одной из множества таких неприкасаемых, невозможных, неприличных тем. Всякий выбирающий говорить о таком остается еще более один и в опасности этического/стилистического провала, чем всякий пишущий вообще.
При этом отталкивающий горестный мир воссоздаваемой реальности этого романа является, как мне кажется, не единственным здесь слоем, Горалик привносит сюда и другие сильнодействующие средства: текст прошит гротеском на грани иного, фантастического воображения. Так, при сумасшедшем доме находится зоопарк монстров — например, тут мяучит и мучит читателя двухголовый чудовищный котенок (но кто же здесь монстры — безумцы или те, кто их уничтожает?).
Это соединение представляется мне одним из наиболее увлекательных для литературы, исследующей советское. Фантастика Гора, Стругацких, Синявского, Шефнера, да и Булгакова, чего уж, переводит на язык странного, воображаемого, лишь представляемого именно непредставимое, а именно: советский век, полный черных дыр и белых пятен. Фантастическим становится не неизведанное, но именно изведанное, однако при этом неприкасаемое, табуизированное, буквально — невыносимо страшное, вторгающееся в сон разума, порождающее известно кого.
Будучи поэтом, и поэтом очень мощного и разнообразного голосового диапазона, Горалик также не запрещает себе вводить в текст большую тему, организованную как вопрос и как метафора: тему войны и/как всеобщего безумия. Маленькая несчастная группа умалишенных становится таким печальным лучом, высвечивающим на своем пути вопрос о природе войны, которая, казалась бы, нарушает все цивилизационные законы (не случайно именно войны приводят к тотальному переписыванию законов: вспомним хотя бы Нюрнберг), однако при этом война и цивилизация, как кажется, неотъемлемы друг от друга.
Горалик пишет о том, чего не испытала, но что является частью нашей сегодняшней жизни, наших страшных снов, она смотрит в прошлое (читает его), но пользуется сегодняшним арсеналом (вслед за Пепперштейном и Литтеллом, и Кияновской — ряд примеров здесь вполне уже очевиден): прошлое, и в этом главный продуктивный парадокс, является проблемой настоящего.
Я читала этот роман с острым интересом, поскольку, как мне показалось, он открывает еще одну возможность, позволяет еще один способ работать с тем, от чего пока, как зачастую кажется, нет исхода; перед нами еще одна слабоизученная область прошлого, порождающая монстров, контролирующих наше настоящее.
Линор Горалик. Имени такого-то. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 192 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science
2 февраля 20229219 Общество
ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202226125 Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература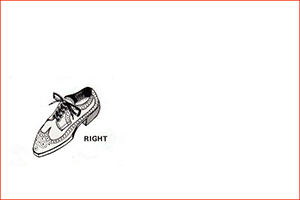 Молодая Россия
Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
31 января 20222480 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат
27 января 20229407 Современная музыка
Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»
27 января 20228968 Молодая Россия
Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой
27 января 20222705 Литература
Литература Общество
Общество