 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?
Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202329656 © «Эшколот»
© «Эшколот»15 июля исполнилось 122 года со дня рождения Вальтера Беньямина. COLTA.RU публикует материалы круглого стола, посвященного выходу русского перевода книги Гершома Шолема «Вальтер Беньямин — история одной дружбы». Круглый стол был организован проектом «Эшколот» совместно с Центром авангарда Еврейского музея и издательством Grundrisse.
переводчик, эссеист, социолог
Книга Шолема, конечно, одна из главных книг международной беньяминианы. Это объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, здесь есть сюжет дружбы далеко не идиллической, а полной внутреннего спора, полной непонимания с обеих сторон, тем более что книга пишется a posteriori, когда уже все произошло, все известно — и судьба той Германии, в которой формировались Шолем с Беньямином, и судьба того слоя, к которому они принадлежали. Я думаю, что Шолем кое-что a posteriori переоценивает и переакцентирует в том, что реально между ними было и что было вокруг них. Вообще говоря, это «история дружбы-вражды», как у Александра Блока и Андрея Белого. Здесь, конечно, вражды нет, но внутренние напряженные отношения есть. Второй важнейший сюжет — это, собственно, представленный в книге генезис мысли Вальтера Беньямина. В этом смысле — это не биография. Не разговоры Гете с Эккерманом. Не босуэлловская «Жизнь Сэмюэла Джонсона» и не «Жизнь Гельдерлина» Вайблингера. Я бы сказал, что это своего рода протокол дружбы. Протокольность повествования явно имеет особое значение в этой книге. Что касается генезиса основных тем мысли Беньямина, Шолем показывает напряжение между тремя линиями самоопределения Беньямина: немецкой буржуазной линией, включая попытки сделать академическую карьеру; линией еврейской мистики и метафизики со всеми напряжениями Беньямина по отношению к еврейству; линией революции, левой мысли и политики. Он изображает Беньямина как двуликого Януса, который разрывается между политикой и религией или политикой и философией, причем мистической философией. Дело здесь не просто в индивидуальности и характере Вальтера Беньямина. Конечно, это его глубоко внутренние, экзистенциальные проблемы, но контекст и значимость напряжений между этими линиями гораздо шире. Мы понимаем, что Германия и вся Европа жили несколько десятилетий в напряжении между этими основными линиями. Так сложилось взаимодействие политики и мифологии в нацистской Германии, так складывались отношения политики и искусства, политики и эстетики в беньяминовской мысли, так складывалась очень важная для него тема взаимодействия техники и массовой политики, техники и современного искусства. Тематика насилия, важнейшая в истории философской и общественной мысли, не очень сильно подхваченная впоследствии и отчасти переакцентированная и огрубленная Адорно в его «Авторитарной личности», у Беньямина гораздо тоньше и сложнее.
Читая книгу Шолема, легко убедиться, что Шолем, со своей стороны, очень хочет слиться с Беньямином. А Беньямин, кажется, не очень.
Мне бы хотелось подчеркнуть внутреннюю противоречивость такого типа мыслителя, как Вальтер Беньямин. Мыслителя, по рождению и по склонности не принадлежавшего ни к кому и ни к чему. Беньямин где-то, говоря про себя, цитирует Сент-Бёва: «Ни одна из партий не может назвать меня своим». Беньямин был таким человеком. Имеются в виду партии не только политические, а любые — интеллектуальные, социальные, любые другие. Читая книгу Шолема, легко убедиться, что Шолем, со своей стороны, очень хочет слиться с Беньямином. А Беньямин, кажется, не очень. И не только не хочет, а в принципе не может. Он так создан, он не может сливаться с местностью. Он не может слиться ни с Асей Лацис, ни с Брехтом, как ни важны они для него, и это вечная судьба, из которой невозможно выпрыгнуть. В этом смысле идеи о самоубийстве с самого начала 1930-х годов преследуют Беньямина. Это был далеко не случайный акт — якобы он от отчаяния взял и покончил с собой. Он по крайней мере десять лет живет с идеей, с чувством, что надо покончить с собой, что это единственная возможность существовать и как-то себя вести в этом мире. Еще один момент, чрезвычайно важный для книги Шолема, — это как существовать при разрыве традиции, в условиях, когда что-то, что было сакральным, перестало им быть и только ты здесь и сейчас добровольно можешь признать значимость этого, но никакие небеса, и никто на свете, и ничто на свете не может тебя убедить в том, что то, что ты считаешь значимым, — значимо. В этом смысле совершенно не случайна болезненная чувствительность Беньямина к разломам и разрывам. Он, как собака, предчувствует грозу. Помимо того что он предвосхитил ее как мыслитель, он чувствовал ее просто как человеческое существо. Это почва, из которой произрастают основные темы и нервы его творчества, и это объясняет генезис эстетических пристрастий Беньямина — пристрастия к фрагменту, к цитате, к осколку, к обрывку, принципиальное недоговаривание до конца. Фрагмент как форма абсолютно окончателен и совершенно не закончен. Это и есть модус существования мысли Беньямина. Это его завет кому-то другому мыслящему. Из совокупности того, что он делал и что писал, рождается понимание особого модуса существования, к которому можно отнестись как к уже сформировавшейся традиции.
 © «Эшколот»
© «Эшколот»Адорно в Германии, Арендт в Америке проделали серьезную работу по систематизации и продумыванию беньяминовского наследия. В сравнении с этим судьба Беньямина в России, можно сказать, только начинается. В частности, для литературы и современной поэзии фигура и мысли Беньямина имеют, как ни странно, чрезвычайно существенное значение.
поэт, критик, переводчик
8 марта я шел с Марсова поля после антивоенного митинга в довольно растрепанных чувствах, потому что на митинг пришло не больше восьмисот человек. Я пошел домой по Литейному, чтобы как-то развеяться, и в магазине «Академкнига» увидел книжку Шолема. И хотя она там стоила втридорога, со страшной какой-то наценкой, я не удержался, потому что мне нужно было совершить какой-то жест, чтобы компенсировать ужас жизни… Я ее купил и, не отрываясь, три дня читал. Для меня Беньямин еще с юности очень близкий автор. Я о нем узнал, еще когда в школе учился, вышла книжка «Миф о смерти искусства» Арсланова, о Франкфуртской школе, там была глава, посвященная Беньямину, и, собственно, тогда, в 1984 году, я и приобщился к этой констелляции: искусство, смерть, Беньямин, левая меланхолия, пьяное время. Переводы там немножко хромали, был момент некоторого дребезжания, но все равно эта книжка подвела меня к поэтической стратегии разрушения, то есть проблематизации самого разрушения. Потом я прочел «Центральный парк» и другие поздние тексты Беньямина, где, по его словам, на то, для чего другому писателю нужны две страницы, у него уходит полторы фразы. Концентрация мысли безумная. Это совершенно другой способ письма, мысли и восприятия. Но он к нему шел. Если вы сопоставите эти работы 1930-х годов с его более ранними метафизическими размышлениями о языке, о подобии и т.д., то увидите, что там совершенно другая языковая модель, рецептивный аппарат другой. Саморазрушение искусства стало для меня тогда, в середине 1980-х годов, своего рода лейтмотивом.
Говорить я хочу, на самом деле, о двух вещах. Первая — это политическая герменевтика Беньямина, реконструируемая на основе его поздних текстов: «Центральный парк», «Париж — столица XIX столетия» и «Тезисы о понятии истории». Я предлагаю читать эти тексты и в целом поздний период Беньямина безотносительного того, насколько глубок или вульгарен был его марксизм, как теолого-политическую герменевтику, в которой артикулирована модель конечного мессианизма в условиях чрезвычайного положения. Для него герменевтическая стратегия прочтения текста абсолютно совпадает в этой констелляции, или созвездии, которое образует некую геометрическую многомерную фигуру, абсолютно изоморфную его пониманию революционного мессианского шанса.
 © «Эшколот»
© «Эшколот»Именно Шолем позволяет понять, как эта модель конечного мессианизма в свернутом виде присутствует уже у раннего Беньямина. Здесь понадобится экскурс в любовные отношения, в то, что сам Шолем называет «историей одной дружбы». Это невероятная эмпатия, моментальная, в первый же момент их встречи, и Шолем пишет, что после этого они просто проводят около полутора суток в бесконечном разговоре, как настоящие любовники, рассказывают всю свою жизнь, все свои любимые книги, все, о чем они думают. И в эту же первую встречу Шолем указывает Беньямину на монографию «Революция» Густава Ландауэра, анархо-коммуниста. Казалось бы, Беньямин тогда еще погружен в свои внутренние разборки с сионизмом или с антисионизмом, с упадничеством студенческой жизни, а также переосмысляет кантовские критики через понятие опыта, бывшее тогда для него центральным. Кантианская критическая интенция, которую пытается в совершенно новых условиях и вне строгой философской систематики простроить Беньямин, приходит в страшный конфликт с его другой интенцией, о которой Шолем очень много и открыто пишет. Это иудаизм, сионизм, мистика, каббала и так далее. Шолем во всем этом очень крупная фигура. На русский язык переводилась его очень важная книга о мистических традициях иудаизма, где он заложил основы квазирационального феноменологического подхода к еврейской мистике. То есть мы должны понимать, что в момент встречи это отношения хотя по возрасту не равных, но в чем-то потенциально равных по дерзости мысли людей. И вот дружба невероятной высоты, интеллектуальной, спиритуальной, потом рассекается через Палестину, через палестинский вопрос. В биографическом смысле палестинский вопрос, хотя, если вы будете читать внимательно, там уже тогда между строк завязывается страшный арабско-израильский узел. Когда Шолем уезжает, он, как настоящий друг, как по-настоящему любящий Беньямина человек, ждет, что Беньямин тоже приедет в Палестину и будет заниматься метафизикой и исследованием еврейской мистики. Когда появляется Ася Лацис, потом Брехт, потом юные поклонники Беньямина в лице Адорно, Маркузе, Хоркхаймера, Шолем просто ревнует. Не конкретно к Брехту, к Асе Лацис или даже к марксизму: тут ревность именно в любовном смысле, но не в психологическом, а в библейском — как Яхве, ревнующий к своим творениям, которые делают что-то не так, разрушающий Вавилонскую башню, сметающий Содом и Гоморру; это настоящая любовная страсть. То есть в книге перед нашими глазами разворачивается настоящая любовная драма. После долгих колебаний Беньямин в разговоре с третьим лицом при Шолеме, в момент приезда Шолема из Палестины, говорит: да, я готов ехать, я готов заниматься, я готов получать стипендию в Иерусалиме. И Шолем делает все, чтобы Беньямин эту стипендию получил. Беньямин ее получает в Германии, и что? Он просаживает ее на Асю Лацис. И никуда не едет. Мы видим в книге невероятную ярость, переполняющую Шолема, потому что Беньямин его предал. Дело не в том, что это большая сумма по тем временам, и нужно было ее пробивать в университете, и Шолем давал гарантии под свое имя… Шолем — действительно человек очень буржуазный, очень строгих правил, очень-очень немец такой еврейский. Для него растрата суммы, которую он с таким трудом для Беньямина выбил, в сочетании с тем, что его любимый друг предпочел Палестине, может быть, Париж, или Капри, или Ибицу, а ему, Шолему, Асю Лацис и марксизм!.. Это невероятной силы трагедия, это в театре нужно ставить… А дальше начинается самое печальное. Все, что происходит в 1930-е годы, проходит сквозь сердце Шолема, но не находит там никакого отклика. Он абсолютно слеп к тому, что он сам бильярдным шаром бросил в Беньямина в самую первую встречу, — к анархо-синдикалистской, анархо-коммунистической модели конечного мессианизма, которая переплетена уже тогда, в 1916 году, с библейским обетованием. У того же Шолема между строк есть довольно прозрачный намек на уподобление Беньямина апостолу Павлу. Потом Агамбен разовьет эту интуицию, с очень мощным филологическим аппаратом читая переводы Библии Лютера и тезисы Беньямина о понятии истории. Он покажет, что там «слабая мессианская сила», конечно же, отсылает к «жалу в плоть» и к немощи, слабости апостола Павла, именно так это переводит Лютер на немецкий язык, и именно этим переводом лютеровским пользуется Беньямин. И, конечно, Ландауэр, который в 1918—1919 гг. входит в революционное правительство Баварии и занимает пост министра образования. Единственный декрет, который он издает, предписывает прекратить обучение истории в школах. Очень ницшеанский жест. Потом из-за разногласий с другими членами правительства Ландауэр выходит из него, но это не помешало другим социал-демократам, умеренным, вместе с толпой добропорядочных буржуа забить его на улице палками до смерти. Как они убили Розу Люксембург и Карла Либкнехта в это же примерно время в Берлине. Что должен был думать Беньямин, когда он писал «Критику насилия» спустя два года после этого события? Это проливает совершенно другой свет на «Критику насилия», на то, что он называет там «божественным насилием» и «чистым насилием» в диалоге с Сорелем, который пишет о пролетарской стачке как «чистом насилии», прерывающем государственное. Из этого вырастают зачатки той теолого-политической герменевтики, которую я изложу в небольшом тексте-оммаже Беньямину, мечтавшему написать свой труд о пассажах без единого авторского слова, в виде констелляции цитат и выписок, с минимальными комментариями. Он про то, что такое теолого-политическая герменевтика в понимании Беньямина, с упором на две вещи: модель конечного мессианизма и чрезвычайное положение как то, что применительно к текстам Беньямин называет «часом прочитываемости».
Это страшно читать, потому что в очень мягкой форме, но абсолютно наотмашь Беньямин фактически «посылает» Шолема. Это страшная драма.
Вот опасный критический момент из «Фрагмента N» его трудов о пассажах: исторический материализм стремится к тому, чтобы зафиксировать образ прошлого таким, каким он неожиданно предстает историческому субъекту в момент опасности. Опасность грозит и содержанию традиции, и тем, кто ее воспринимает. И для того, и для другого опасность заключается в одном и том же — в готовности стать инструментом господствующего класса. Традиция угнетенных учит нас, что переживаемое нами чрезвычайное положение — не исключение, а правило. Нам необходимо выработать такое понятие истории, которое этому отвечает. Тогда нам станет достаточно ясно, что наша задача — в создании действительно чрезвычайного положения. История — предмет конструкции, место которой — не пустое гомогенное время, а время, наполненное актуальным настоящим: временем «часа сего», если мы реконструируем библейскую филологическую ткань, с которой работает Беньямин. Так, для Робеспьера Древний Рим был прошлым, заряженным актуальным настоящим, прошлым, которое он вырывал из исторического континуума. Историческому материалисту не обойтись без понятия современности, представляющего собой не переход, а остановку, замирание времени. Ведь это понятие определяет именно ту современность, в которой он пишет свою личную историю. Историзм устанавливает вечный образ прошлого. Материализм — уникальный опыт общения с ним. Он предоставляет другим растрачиваться в борделе историзма на шлюху «когда-то, в былые времена». Он не теряет самообладания, ему достанет мужской силы взорвать континуум истории. Для мышления необходимо не только движение мысли, но и ее остановка. Там, где мышление в один из моментов напряженной ситуации неожиданно замирает, оно вызывает эффект шока, благодаря которому кристаллизуется в монаду. Исторический материалист подходит к историческому предмету исключительно там, где он предстает ему как монада. В этой структуре он узнает знак мессианского застывания хода событий, иначе говоря, революционного шанса в борьбе за угнетенное прошлое. Он ухватывается за него, чтобы вырвать определенную эпоху из гомогенного движения истории, точно так же он вырывает определенную биографию из эпохи, определенное произведение из творческого пути. Результат такого приема заключается в том, что удается сохранить и сублимировать в одном этом произведении всю творческую биографию, в одной этой творческой биографии — всю эпоху, в одной эпохе — весь ход истории. Актуальное настоящее, или время часа сего, резюмирующее как модель мессианского времени чудовищной силы историю всего человечества, до точки совпадает с той фигурой, которую выписывает в универсуме история человечества. Исходящий из этого историк прекращает перебирать в руках череду событий, словно четки, он улавливает отношения, в которые вступает его собственная эпоха с некоторой совершенно определенной эпохой прошлого. Так он закладывает основания понятия современности как актуального настоящего, времени часа сего, в которое вкраплены осколки мессианского времени. Будущее не было для иудеев гомогенным и пустым временем, потому что в нем каждая секунда была маленькой калиткой, в которую мог войти мессия. И фрагмент 18-й, обнаруженный Агамбеном и ставший известным относительно недавно. Именно этот момент является ключевым для понимания теолого-политической герменевтики Беньямина. В действительности же нет ни одного мгновения, которое не обладало бы своим революционным шансом, надо только понять его как специфический, как шанс совершенно нового решения, предписанного совершенно новым заданием. Революционный мыслитель получает подтверждение своеобразного революционного шанса исходя из данной политической ситуации. Но не в меньшей степени подтверждением служит ключевой акт насилия мгновения над определенным, до того запертым, покоем прошлого. Проникновение в этот покой строго совпадает с политической акцией, и именно этим проникновением акция, какой бы разрушительной она ни была, дает знать о себе как о мессианской.
 © «Эшколот»
© «Эшколот»Беньямин строил свои пассажи совершенно парадоксальным, очень ассоциативным и в то же время очень фундированным методом улавливания отблесков и скрытых рифм. Это то, что было абсолютно чуждо Шолему, который был большим знатоком еврейской мистики и должен был понимать, что такого рода мессианизм берется не с потолка, это исторический материализм, но абсолютно встроенный в традицию иудейскую. В последних работах Беньямина акцент не на будущем, как у ортодоксальных марксистов и даже у анархо-синдикалистов. Не ради будущих поколений, не ради будущего мы в настоящем что-то делаем, а совершаем укорененный в иудейской традиции жест, обращенный в прошлое. Надо спасать угнетенное прошлое, наши мертвые взывают к избавлению. Это полный отказ от рационального европейского понимания времени как стрелы, идущей сквозь нас, протыкающей нас из прошлого в будущее. Абсолютно не марксистский ход осмысления темпоральности и абсолютно иудейский. Почему Шолем остается слеп к этому? Это-то как раз он должен был уловить, потому что ему это очень близко и он пишет об этом в своей главной работе об истории мистических течений в иудаизме. Это общая почва Шолема и Беньямина, и оттого еще драматичнее слепота. Они действительно как любовники, которые глаза в глаза, но друг друга не видят. Близость не позволяет им видеть, они как бы закрывают глаза друг другу. В этом трагизм. Мы, конечно, говорим в основном о том, что Шолем чего-то там не увидел. Но позвольте, вообще-то в переписке Шолем заходит с разных сторон, он стратег, он пытается все время залучить Беньямина, напомнить ему о мгновении первой влюбленности. Беньямин как скала. Это страшно читать, потому что в очень мягкой форме, но абсолютно наотмашь Беньямин фактически «посылает» Шолема. Это страшная драма. Я говорю, что когда читал эту книгу — а она пространная, и аппарат научный там мелким кеглем, — то просто не мог оторваться, потому что меня трясло.
философ
Главным моментом, делающим эту переписку актуальной сейчас, является вопрос о взаимоотношениях между материалистической диалектикой и теологией. Актуальной потому, что на протяжении последних тридцати лет любое значимое революционное движение оказывается реальным и значимым постольку, поскольку у него есть теологическая повестка дня. Переписка Шолема и Беньямина позволяет заново поставить вопрос о соотношении материалистической диалектики и теологического, о взаимоотношениях науки о революции и теологии. То, что Шолем остается в тени, — это постоянно повторяющийся паттерн. Действительно, казалось бы, Шолем гораздо более скучная фигура. Беньямин — проклятый поэт, ведет драматическую, бурную жизнь. А Шолем признан истеблишментом, занимается скучной филологической деятельностью, читает рукописи, издает. Но зато был другом Беньямина. Действительно, в переписке создается впечатление, что Шолем — буржуа, который не может понять Беньямина. То, что я сейчас попытаюсь сказать, будет не столько опровержением этого впечатления о Шолеме как о скучном человеке, сколько апологией скучного, попыткой обратить внимание на то, что в некоторых аспектах скучное оказывается куда более интересным и странным, чем то, что мы обычно воспринимаем как интересное. В принципе, парадигмой взаимоотношений между Шолемом и Беньямином мне представляются взаимоотношения между Винни-Пухом и Кроликом из книги и особенно мультфильма. Кролик тощий и высокий, и Шолем постоянно подчеркивает в переписке, что он выше Беньямина, такого полного и приземистого. Шолем и Кролик — буржуазные педанты, а Беньямин занимается сочинением каких-то непонятных фрагментов, расхаживает повсюду. Фигура фланера его очень привлекала. И застревает, на самом деле, тоже. У Беньямина один из важнейших модусов существования — это застревание. Но изначально я имел в виду одну фигуру, когда Винни-Пух приходит в гости к Кролику, а Кролик говорит ему: «Кролика нет дома, он ушел к своему другу Винни-Пуху». Когда Кролик приходит к Винни-Пуху, то ему говорят, что Винни-Пуха нет дома, потому что он ушел к своему другу Кролику. И этот процесс должен быть кругом, повторяющимся циклом. Действительно, отношения Шолема с Беньямином так построены, но, вообще говоря, это внутренняя структура поля, которое можно назвать полем теологического. Таким образом выстроены отношения между иудаизмом и раввинистическим христианством. То, что Богом христиан является еврей, христиане высказывают открыто. То, что Богом евреев является христианин, евреи высказывают чуть менее открыто, потому что умение говорить, вопреки распространенному предрассудку, не является их сильным местом. Эта структура приводит к тому, что, приходя к Богу, ты всегда обнаруживаешь, что Его нет и что Он ушел в гости к тебе. А ты обнаруживаешь, что и тебя тоже нет, потому что ты ушел в гости к Нему. Это такое вот повторяющееся движение. И эта структура сохраняется и в романтизированном модусе функционирования поля теологического. Я постараюсь проиллюстрировать ее на фигуре Шолема.
 © «Эшколот»
© «Эшколот»В литературе о Шолеме заметны два противоположных полюса. Первый — это то, что можно назвать мистическим анархизмом. Противники Шолема еще при его жизни обвиняли его в создании саббатианской криптотеологии. Один из самых известных критиков Шолема литературовед Барух Курцвайль написал серию статей, где утверждал, что целью Шолема в его якобы исторических текстах про саббатианцев было создание теологии, которая оправдывала бы секулярный сионистский проект. Собственно, сионизм — это реализация саббатианских идей. Одним словом, это полюс, который рассматривает Шолема как бунтаря и анархиста. Есть другой полюс, рассматривающий Шолема как скучного филолога, который либо засушивает каббалистическую традицию в теоретизме, либо абстрагируется от жизненного, непосредственного аспекта каббалы, от «эроса», как формулирует, например, Йегуда Либес. По мнению критиков, школа Шолема пытается каббалистические тексты, которые совсем не являются системой, систематизировать и объединить в стройную и законченную теорию. Вплоть до обвинения в «академическом погребении» иудаизма, которому Шолем способствует своим тщательным филологическим анализом, настаиванием на соблюдении всех правил анализа текстов, выработанных немецкой историко-филологической школой. Я думаю, что спекулятивной истиной этого противоречия двух полюсов является то, что оба они верны. Но каким образом они оба верны? Они оба верны, потому что криптотеологией, которую создает Шолем, является именно скрупулезное академическое историко-филологическое изучение текстов. Филология оказывается радикальным анархическим религиозным действием. А буржуа, который функционирует в рамках принятой академической структуры, оказывается радикальным анархистом. Вся деятельность Шолема может быть охарактеризована как филологический Байройт в том виде, как его описывает Лаку-Лабарт, говоря о проекте Вагнера: попытка собрать осколки изначального арийского мифа и вернуть их к первоначальной целостности с помощью превращения в музыкальную драму, представить их немецкому народу, который, созерцая четырехдневное исполнение «Кольца нибелунга», понимает, кто он есть.
В принципе, парадигмой взаимоотношений между Шолемом и Беньямином представляются взаимоотношения между Винни-Пухом и Кроликом из книги и особенно мультфильма.
Если собрать фрагменты, в которых Шолем характеризует свою задачу, то складывается очень близкая картина, указывающая на то, что деятельность Шолема по созданию кафедры каббалы и еврейской философии в Еврейском университете в Иерусалиме была попыткой создания филологического Байройта. Почему? Потому что Шолем занимается тем, что называют духом народа; он называет это каббалистическим понятием «целем». Целем — это прообраз человека, к которому он себя пытается постепенно приравнять при помощи своих действий. Такой же прообраз есть у народа. Этот прообраз, или дух, выражается в творчестве — в частности, в текстах, которые народ создает. Дух еврейского народа в наиболее концентрированном виде проявляется в каббалистических текстах. Но, по словам Шолема (в них как раз проявляется его анархизм), ни одна система не может удержать в себе дух. Дух всегда превосходит систему, ускользает из нее. Чтобы сделать дух наглядным и явленным, надо собрать разрозненные фрагменты, в которых дух себя пытался проявить на протяжении истории, собрать каббалистические тексты, сделать их объектом академического изучения и максимально сблизить точки ускользания духа. Наука, конечно же, изучает мертвые тела, потому что дух из них ускользает. То, что интересует здесь Шолема, — это зафиксировать точки ускользания, сблизив неудачи и поражения, сделать явленным то, что по-другому выражено быть никак не может. Кафедра по изучению каббалы и философии в Иерусалиме должна сделать явленной суть еврейского народа, который в ходе сионистского проекта осуществляет государственное и национальное строительство и будет таким образом превращаться из «народа в себе» в «народ для себя». И то, что на протяжении веков каббалисты пытались осуществить в рамках той или иной системы и что им не удавалось, наконец-то удастся осуществить благодаря тому, что будет признано поражение. Будет признано, что осуществить это было невозможно, но именно благодаря собиранию неосуществленных попыток и признанию того, что все они были неудачами, в конечном итоге будет одержана победа.
 © «Эшколот»
© «Эшколот»Тут мне кажутся важными два момента. С одной стороны, именно европейская и христианская школа исторического изучения текстов является средством для превращения «иудаизма в себе» в «иудаизм для себя», то есть для того, к чему иудаизм раввинистический стремился на протяжении веков и чего был не в состоянии достичь. В работах про Саббатая Цви и лурианскую каббалу Шолем излагает идею, что высший аспект познания Божества находится в руках Исава, или Эдома, брата Иакова. Это фигура, с которой в еврейской раввинистической традиции отождествляется сначала Рим, а затем и весь христианский Запад. Эту идею наиболее полно развивает рабби Нафтали из Франкфурта, каббалист XVIII века. Есть некоторая составляющая познания Абсолюта, остающаяся недоступной евреям в этом мире. Часть, которая превосходит возможности еврейского народа, находится во владении Исава. В мессианские дни эта часть Божественного, находящаяся во владении Исава, будет у него изъята. Это оказывается главным содержанием мессианской идеи. Яков Франк, создавший свою секту в конце XVIII века, делает из этой идеи практические выводы. Одним из главных концептов его учения становится так называемый поход к Исаву, закончившийся тем, что его ученики приняли христианство. Они делают это затем, чтобы овладеть тайным знанием, или «тайной девой». Действительно, получается, что Шолем, следуя тенденции, предписываемой его воспитанием в буржуазной среде в Берлине и его академическим образованием, осуществляет еретическую идею каббалистов и Якова Франка. Он своей деятельностью в Иерусалиме завершает поход к Исаву.
И тут я возвращаюсь к апологии скуки. Результат похода к Исаву совершенно скучный и повседневный, но именно эта повседневная практика оказывается также и в наивысшей степени невозможной. В книге «Из Берлина в Иерусалим» Шолем вспоминает о том, как его отец, вполне благоустроенный берлинский буржуа, встречал субботу. Он зажигал субботние свечи, закуривал от них сигару (что является нарушением законов субботы) и произносил несуществующую бенедикцию: «Благословен Господь, создавший плод табака». Любопытно, что повседневная практика курения сигары, воплощение буржуазности, оказывается также квинтэссенцией еретической теологии. Поход к Исаву создает возможность для осуществления одной из наиболее глубинных интенций в каббалистической и хасидской теологии, а именно прихода к состоянию, когда само материальное становится Божественным. Именно благодаря принятию европейского буржуазного образа жизни становится возможным превращение самого повседневного в самое странное и радикально невозможное. Фигура Шолема является воплощением сакрализации повседневного, при котором оказывается, что профессор филологии — это нечто куда более ужасающее и странное, чем Ктулху и живые мертвецы.
 © «Эшколот»
© «Эшколот»художественный критик, куратор
На самом деле я читал эту книгу 20 лет назад и сейчас перечитывал ее очень по-беньяминовски, не на немецком языке, а в переводе на английский. Вообще вопрос перевода для Беньямина, конечно, ключевой, абсолютно центральный, в его метафизике языка играет фундаментальную роль. Я ее сейчас понял совершенно по-другому, нежели когда впервые читал. Дело не только в английском языке. Наверное, когда 20 лет назад я ее читал, я ее понимал в контексте холодной войны, потому что вот эта история дружбы с Вальтером Беньямином, конечно, использовалась и очень часто цитировалась правыми в доказательство того, что марксизм Вальтера Беньямина был главным препятствием в отношениях с Шолемом. Возмущение и недоумение Шолема по поводу интеллектуального и политического развития ближайшего друга являются главным нарративом этой книги, ее центральной драмой. Самое яркое тому доказательство — три письма в приложении. Когда я это читал впервые, я думал: «Боже мой, как Шолем ничего не понимает! Он не понимает, как важен Беньямин для того, что называется западным марксизмом, он не понимает, насколько тонко устроен его анализ нового медийного пространства!» И действительно, Шолем демонстрирует полное непонимание самых фундаментальных текстов, особенно значимых для людей моей профессии, занимающихся современным искусством. Например, текст про произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости Шолем не понимал и в этой книжке говорит, что не видит связи между началом и концом, не очень понимает, как вообще устроено это рассуждение, видит множество уязвимых мест. Конечно, 20 лет назад я думал: «Боже мой, это полностью дискредитирует Шолема в моих глазах, я не могу дальше это читать». Но сейчас, когда я перечитывал, я понимал, насколько Шолем вообще-то прав. Однако это уже после того, как я тщательно проштудировал беньяминовские исследования марксизма, в частности, законспектированные в «Пассажах». Я хотел знать, что именно он конспектировал, когда интересовался диалектическим материализмом. Можно сказать, что это не самое интересное у Беньямина, более того, я бы сказал, что это скорее вредит, а не помогает пониманию настоящего марксизма. То, что мы любим цитировать, говоря о современном искусстве, — это часто самые банальные суждения Беньямина. Например, знаменитое, доведенное почти до алгоритма, высказывание: «Эстетизация политики — это плохо, политизация эстетики — это хорошо». Это такая, я бы сказал, псевдодиалектика. У Беньямина, на самом деле, именно в тех метафизических местах, где он не является сознательным имитатором марксизма своего времени, есть моменты, гораздо более интересные для восприятия новыми левыми. Именно там можно найти наиболее перспективные идеи про язык и непереводимость, про насилие и критику насилия. Его статья «Критика насилия» не является марксистской статьей, она написана скорее в диалоге с Сорелем и с анархизмом. Вообще его теократический анархизм, то, что Шолем называет их общей позицией, оказался намного более интересным в исторической перспективе. Поэтому Шолем интересным образом прав и неправ. Он прав, когда рассуждает про марксизм Беньямина как вульгарный, поверхностный, как далеко не самое интересное, что делал этот мыслитель. Но, с другой стороны, он совершенно не понимает, что можно очень по-ленински читать Беньямина в его самых метафизических моментах и понимать его как радикального материалиста — примерно как Ленин прочитал Гегеля в 1914 году, когда, кстати, и завязалась дружба Шолема с Беньямином.
Гершом Шолем. Вальтер Беньямин — история одной дружбы. Перевод с немецкого Б. Скуратова под редакцией Т. Набатниковой. Предисловие И. Болдырева. — М.: ООО «Издательство Grundrisse», 2014. — 464 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202329656 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202258463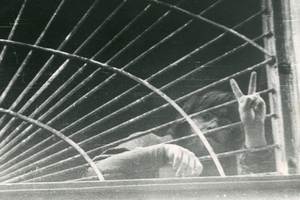 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202275050 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202241723 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 2022103389 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202261534 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202242319