 Литература
ЛитератураОнлайн-портреты современных немецких поэтов. «Так лучше: конкретная поэзия Моники Ринк»
Экспериментальная лирика Моники Ринк плотно связана с опытом графических искусств
12 сентября 2021218 © Colta.ru
© Colta.ru«Я встретил ее вчера ночью. Бледный свет электричества, сливаясь с табачным дымом, легкой мглой висел в большой белой зале, уставленной столиками, и широкие, почти черные листья латаний и пальм почти траурным узором рисовались на белоснежных стенах.
Когда я вошел сюда и, жмурясь от яркого света, искал глазами свободного места, на эстраду вышла какая-то женщина в красном и хриплым голосом запела скабрезную шансонетку.
И грязные, бесстыдные слова, как маленькие острые камешки, долетали во все уголки белой залы, а певица, улыбаясь детской улыбкой, серыми наивными глазами обводила толпу, и с ярких накрашенных губ летел пошлый мотив, в ответ которому лица улыбались циничной улыбкой, и в глазах загорался тусклый огонь сладострастья…»
Прочитали? А теперь представьте, что вы — не вы, а Иван Бунин. А попробовав, вообразите дальше такую вот картину: к вам, первому русскому нобелевскому лауреату, автору уже изданной «Жизни Арсеньева» и еще не опубликованных «Темных аллей», явился некий настырный репортер — какой-нибудь Боба Кандалупский из милюковских «Последних новостей». И вместо того, чтобы начать интервью с вопроса о том, каким образом вы распорядились денежным содержанием только что полученной премии, — а то русские писатели, видите ли, изрядно волнуются, отчего это с Зайцевым вы решили поделиться щедрее, чем со Шмелевым, — вместо того, чтобы задавать действительно содержательные вопросы, этот самый Боба прочитал вам вышеприведенный закавыченный текст и поинтересовался: «Скажите, Иван Алексеевич, как по-вашему, кто бы мог этакое написать?» Что бы вы, будучи Буниным, ему ответили? Вероятнее всего, примерно следующее: «А черт его знает, голубчик, кто бы мог… Да кто угодно. Брюсов какой-нибудь… Или этот… как его… Каменский… Да знали бы вы, сколько в те времена было всяческих паршивых декадентов, только на такое и способных, — не спрашивали бы!..» И когда репортер назвал бы вам имя автора этого отрывка, реакция ваша была бы наверняка еще более предсказуемой: «Какая Петровская?.. Морфинистка, что ли?..»
***
Есть широко известное выражение — «прóклятые поэты». С ударением на первую гласную. Какие имена возникают в голове любого мало-мальски образованного читателя, когда он это выражение слышит? Шарль Бодлер и Поль Верлен, естественно. Еще — Тристан Корбьер, Артюр Рембо, Стефан Малларме, Вилье де Лиль-Адан и другие французские стихотворцы сначала конца девятнадцатого века, а затем и всего века двадцатого. Список до сих пор открыт, и для того, чтобы в него попасть, необходимо соответствовать изначально заданным критериям, как то: быть асоциальным, не признавать принятых в добропорядочном обществе норм поведения, считать себя непризнанным гением, заниматься планомерным саморазрушением и — главное — умереть обязательно не очень старым и по возможности не своей смертью. А после смерти непременно прославиться.
Если бы Нина Петровская была урожденной француженкой, место в этом сомнительном — с точки зрения нормального обывателя — списке было бы ей гарантировано. Но ей не повезло и в этом. Как и во всем остальном. Прежде всего со временем и особенно с местом появления в этом более чем странном мире.
В течение нескольких лет середины 1900-х Нина побывала в любовницах у Константина Бальмонта, Андрея Белого и Валерия Брюсова.
Точная дата рождения Петровской неизвестна. Равно как и место. Известен только год — 1879-й, да и он не наверняка, месяц же — не то январь, не то март. Неизвестно также ее социальное происхождение. Большинство знакомцев из числа современников считало ее дочерью какого-то мелкого чиновника, то есть мещанкой самого банального пошиба; сама же она о своем происхождении предпочитала ничего конкретного не рассказывать, да и вообще скрывала биографические данные, включая возраст, что так свойственно женщинам вообще, а принадлежащим к художественно-артистической богеме — в особенности.
В богему Петровская попала в 1903 году, лет двадцати пяти от роду. Богема была московская, и в ней в ту пору зарождалось явление, получившее название «символизм», — тот краеугольный камень, на котором в последующие полтора десятка лет был воздвигнут карточный домик российского Серебряного века, сметенный мировым катаклизмом 1914-го и особенно 1917 года. Для того чтобы обратить на себя внимание «мэтров» только что возникшего символизма, барышне, подобной Петровской, следовало действовать одним из двух возможных путей: или начать писать что-нибудь гениальное (лучше, конечно, стихи, но и проза тоже сойдет), или лезть к «мэтрам» в постель. А еще лучше — для верности — предпринять и то и другое.
В течение нескольких лет середины 1900-х Нина побывала в любовницах у Константина Бальмонта, Андрея Белого и Валерия Брюсова. Это только из числа самых известных, признанных «мэтров»; о менее известных в связи с Петровской обычно не упоминается. Но замуж вышла не за кого-то из них, а за своего почти одногодка — адвоката, выпускника юридического факультета Московского университета Сергея Соколова. Служил Соколов помощником присяжного поверенного, но в душе считал себя поэтом. Так бывает, особенно в России, дело, как говорится, житейское. Начинающий стихотворец творил под довольно прозрачным псевдонимом — Сергей Кречетов. С талантом, правда, у Соколова-Кречетова было плоховато, зато с организаторскими способностями очень даже хорошо. А поскольку никто кречетовских виршей печатать не хотел, молодой поэт вознамерился стать также и издателем. И в том же 1903-м стал, основав ныне легендарное издательство «Гриф», в котором помимо сочинений его владельца издавались книги близких ему по духу литераторов — Бальмонта, Белого, Сологуба, Северянина, Анненского. Также в первые годы своего существования «Гриф» выпускал одноименный ежегодный альманах, в котором публиковались юные, жаждущие признания и славы дарования — например, Владислав Ходасевич.
Одним из этих дарований стала и жена издателя. Нина Петровская писала небольшие по объему новеллы, в основном от первого лица, причем, что интересно, не от женского, но от мужского. Тематика ее сочинений вертелась исключительно вокруг психологических внутренних переживаний, связанных с запутанными человеческими страстями — несчастной или неразделенной любовью, стремлением к счастью и невозможностью его в полной мере обрести, всевозможными страхами, истериками, предательством, разбитыми иллюзиями и поверженными в прах мечтами. То есть той самой, выражаясь по-бунински, «паршивой декадентщиной».
Публиковалась Петровская в различных периодических изданиях — в первую очередь в издававшихся ее мужем (альманах «Гриф», журнал «Перевал»), а также и в других московских и провинциальных газетах, журналах и альманахах («Новь», «Столичное утро», «Голос Москвы», «Кристалл» и др.). Десяток напечатанных в 1906—1907 годах в этих изданиях рассказов составил ее вышедшую в конце 1907 года первую книгу, озаглавленную по-латыни — «Sanctus Amor» («Святая любовь»), оказавшуюся при жизни Петровской не только первой, но и последней. Книга осталась почти незамеченной; отзывы критиков на нее были немногочисленными и колебались от нейтрально-благожелательных (со стороны своих) до пренебрежительно-злобных — как, например, реплика, походя брошенная поэтессой Зинаидой Гиппиус: «Сочинения какой-нибудь Нины Петровской “Sanctus Amor” — не более чем самообъективизация женщины, признающей пол своей исчерпывающей сущностью...» Ну не любил Антон Крайний поэтесс и писательниц, что ж тут поделаешь. Да и нравы в российской художественной богеме начала прошлого века взаимной комплиментарностью никогда не отличались.
Богемное существование неотделимо от сопутствующих этому мирку пороков. Под этим термином в первую очередь подразумевается не столько хаотичное сексуальное поведение, сколько присущая богемным персонажам склонность к саморазрушению посредством злоупотребления содержащими этиловый спирт жидкостями и вызывающими кратковременную эйфорию химическими препаратами. Не избежала этого и Петровская. В течение тех восьми лет, что она вращалась в среде московских символистов, Нина перепробовала все, что только можно было в ту пору попробовать. Следствием этого стали, во-первых, хронический алкоголизм, во-вторых, не менее стойкая наркомания, в-третьих — тяжелейшие психические проблемы. Семейная жизнь развеялась как дым, существовать было не на что и не для чего. Покончить с собой, чтобы прекратить мучения от невыносимого существования, было страшно. Однако дальнейшее пребывание этой женщины в среде, где ее давно уже воспринимали не как писательницу, но как Смерть на двух ногах, было далее немыслимо.
Кончилось все тем, что в ноябре 1911 года мэтры-символисты скинулись кто сколько мог и отправили Нину Петровскую за границу — в Германию, наказав обратиться к просвещенной европейской психиатрии и до полного исцеления от морфиновой зависимости обратно в Россию и носа не показывать. То есть фактически отправили ее в принудительную эмиграцию, настолько эта женщина их всех своим непредсказуемым поведением достала. Тем более что у всех них в памяти была история шестилетней давности, когда Петровская пыталась застрелить Брюсова прямо во время его публичного выступления перед студентами, да вот только браунинг дал осечку и «мэтру» повезло уцелеть.
***
Пребывание в мюнхенской психбольнице Петровской если и помогло, то не особо сильно и не очень надолго. Покинув обитель скорби, в предвоенные годы она переезжала из страны в страну — из Германии во Францию, из Франции в Италию, — нигде подолгу не задерживаясь и неизвестно на какие деньги существуя.
Имеются голословные свидетельства современников, что по крайней мере дважды в эти годы она пыталась покончить с собой. В первый раз — вроде бы выбросившись из окна гостиницы на мостовую, во второй — сиганув под автомобиль. А может, это был один и тот же случай, только по-разному воспоминателями интерпретированный. Но от подоконника до тротуара лететь оказалось невысоко, и разбиться насмерть Петровская не сумела. А сумела она только сломать ногу; кость потом плохо срослась, и Нина на всю оставшуюся жизнь стала хромоножкой. Подобная коллизия становится тяжелейшей психологической травмой для любой женщины, для Петровской же она стала трагедией вдвойне. Что же до попадания русской писательницы под немецкий мотор, то — если этот случай действительно имел место, а не был выдуман Алексеем Толстым, известным, мягко выражаясь, фантазером, — получается, что шофер оказался проворнее и вовремя сумел отвернуть в сторону.
Скитаясь по Европе, Петровская продолжала писать рассказы. Готовые тексты она отправляла в Москву, где они иногда публиковались в газете «Утро России». Однако с началом мировой войны публикации Петровской в российской периодике, и без того крайне редкие, полностью прекратились. Стало совсем не до литературы. Мир двигался куда-то совершенно не туда. Особенно русский мир. Сначала лихое наступление русских войск захлебнулось кровью в Восточной Пруссии и в Галиции, затем война превратилась в позиционную мясорубку, потом отрекся от престола царь, объявилось Временное правительство номер раз, Временное правительство номер двас, «корниловский мятеж», Предпарламент, какие-то большевики…
Ничего этого Нина Петровская не знала и не понимала. Начало войны застало ее в Риме. Там же она провела последующие восемь лет, прозябая в чудовищной нищете и непонятно чем зарабатывая на то, чтобы не умереть с голоду. Не исключено, что — не чем, а кем.
Между тем у нее на родине империалистическая война плавно перешла в войну гражданскую. Бывший муж Нины Сергей Соколов-Кречетов, фронтовой офицер-вольноопределяющийся, вернувшийся из германского плена, стал одним из идеологов Белого дела, а бывший любовник, Валерий Брюсов, примкнул к большевикам. Жизнь разбросала символистов, акмеистов, футуристов и прочих «-истов» по разные стороны баррикад и государственных границ. Как следствие, многие из них под конец Гражданской войны оказались в Берлине, Париже, Белграде, Софии и других европейских городах, с трудом приходящих в себя после четырехлетнего европейского катаклизма.
***
В начале 1920-х главным центром русской антибольшевистской эмиграции был Берлин. В этом городе оказалось несколько сотен тысяч русских всех сословий, различных убеждений и вероисповеданий. Люди были самые разные, и объединяло их только одно — в той или иной степени выраженная неприязнь к установившейся на их родине новой власти. Среди беженцев из Совдепии было множество интеллектуалов и представителей творческих профессий — артистов, литераторов, художников, музыкантов. В Берлине расцвела русская культурная жизнь. Одни за другими, как грибы после дождя, образовывались издательства, кабаре, художественные салоны. Начали выходить белоэмигрантские периодические издания.
В стане белой эмиграции царило лихорадочное оживление. Из покинутой России доходили вести, настраивающие вроде бы на оптимистический лад: то восстали против большевиков кронштадтские матросы, в 1917-м бывшие главной ударной силой Ленина и Троцкого при захвате ими власти, то массово взялись за обрезы и топоры крестьяне Тамбовской и Воронежской губерний, то вспыхнуло повстанческое движение на Дону и в Поволжье, то… Многие интеллектуалы из числа потерпевших поражение белогвардейцев воспрянули духом и рассчитывали в недалеком будущем вернуться на родину и въехать в Москву на белых танках. В их числе был и обретавшийся в Берлине Сергей Соколов-Кречетов, возобновивший привычное для него занятие, которое на сей раз называлось уже не издательство «Гриф», но издательство «Медный всадник». И таких, как он, было предостаточно.
В течение тех восьми лет, что она вращалась в среде московских символистов, Нина перепробовала все, что только можно было в ту пору попробовать. Следствием этого стали, во-первых, хронический алкоголизм, во-вторых, не менее стойкая наркомания, в-третьих — тяжелейшие психические проблемы.
Но были в этой среде и другие. Понимавшие, что большевики захватили власть если и не навсегда, то очень надолго. И что перед теми русскими, кто волею обстоятельств был вынужден Россию покинуть, стоит дилемма: или прозябать в нищете, но с чистой совестью, — или приспосабливаться к изменившимся условиям, запихав совесть поглубже в пустой карман. В котором со временем, бог даст, что-нибудь да и зашуршит, а то и зазвякает. Эти люди назвали себя «сменовеховцами» — от вывески их манифеста, изданного в 1921 году в Праге сборника статей «Смена вех», в котором они призывали радикально настроенных коллег по изгнанию если и не прямо признать новую российскую власть, то уж, во всяком случае, перестать с нею активно бороться, поскольку это дело бессмысленное и в исторической перспективе неблагодарное. Ибо худой мир, как известно всякому русскому человеку, куда лучше доброй ссоры.
Это выступление не осталось незамеченным в Кремле. Скоро, очень скоро со «сменовеховцами» были установлены контакты со стороны ведомства, квартирующего в здании на Большой Лубянке, и вчерашние российские интеллектуалы довольно быстро начали превращаться в агентов большевистского влияния в антибольшевистской эмиграции. Центром подрывной работы, естественно, стал тот же Берлин, где весной 1922 года было начало издание газеты под названием «Накануне» — вроде бы эмигрантской, но на большевистские деньги.
Сейчас об этом издании знают только специалисты-литературоведы; те же, кто просто где-то что-то слышал, если что и могут о «Накануне» сказать, то обычно вспоминают это название только в связи с булгаковской характеристикой, записанной писателем в своем дневнике «Под пятой»: «Компания исключительной сволочи».
Сволочь и в самом деле была исключительная. Когда-нибудь кто-нибудь напишет об истории газеты «Накануне» фундаментальную монографию — и вы, уважаемые читатели, сможете в этом сами убедиться. Пока же этого не случилось, мне ничего не остается, как только просить вас верить нам с Михаилом Афанасьевичем на слово. Тем более что речь про «Накануне» я завел не просто так, а в связи с Ниной Петровской. Которая, перебравшись осенью 1922 года из Рима в Берлин, стала иметь к этому изданию самое прямое отношение — как один из наиболее плодовитых его авторов.
***
Попав в «Накануне», Петровская развернулась там на полную катушку. За двадцать месяцев сотрудничества с этим изданием, с октября 1922-го по июнь 1924-го, в газете было опубликовано 4 ее рассказа, 32 публицистические статьи и эссе и 86 рецензий, заметок и репортажей. Первый из этих текстов — эссе «Рим» — появился в «Накануне» 15 октября 1922 года, последний — «Еще о “голодном блеске”» — 13 июня 1924-го. Два дня спустя, когда из типографии не вышел очередной, по счету 652-й, номер, читателям и подписчикам «Накануне» стало ясно, что газета сдохла.
Прекращение издания газеты стало следствием стечения весьма прозаических обстоятельств, а именно: Лубянка прекратила финансирование, посчитав, что задачи «Накануне» полностью выполнены. В последние недели перед бесславным концом редакцию «Накануне» сотрясали перманентные дрязги и скандалы, бесконечные разборки относительно того, кто чей агент, а также взаимные обвинения в воровстве получаемых от ГПУ денег. Положение усугублялось тем, что вертевшиеся там персонажи сами по себе были людьми из категории «никто, ничто и без пальто», а их единственный «авторитет» — «красный граф» Алексей Толстой, бывший основным мотором данного сомнительного предприятия, еще в августе 1923-го сбежал из Берлина в большевистскую Москву.
***
Пока существовало «Накануне», жизнь Петровской в Берлине была более-менее сносной. Авторам в этом издании платили долларами, и платили не скупясь. В условиях же тяжелейшего экономического кризиса, сотрясавшего в те годы веймарскую Германию, и сопутствовавшей ему гиперинфляции, когда килограммовый батон хлеба стоил килограмм резаной бумаги с вензелями государственного казначейства, обладателям твердой валюты можно было ни о чем не беспокоиться. Разве что о том, сколько на выдаваемых им банкнотах чужой невинной крови, но получатели гонораров в кассе «Накануне» такими вопросами не особо задавались.
Когда «Накануне» лопнуло, Петровская снова попала в уже хорошо ей знакомое состояние бедности на грани нищеты, а затем и полной нищеты. Мечтая хоть как-то заработать на жизнь, она принялась писать воспоминания, значительное место в которых отводила первому периоду своего творческого пути, то есть середине и второй половине 1900-х годов, а также своим взаимоотношениям с Брюсовым, Белым и компанией. Однако не доведенная до конца рукопись никого из эмигрантских издателей не заинтересовала. Дела их с каждым месяцем шли все хуже и хуже, в условиях сокращения количества читателей выживали немногие, а у авторов, замаранных сотрудничеством с гэпэушной газетой «Накануне», шансов пролезть в белоэмигрантские издательства и журналы не было никаких.
Оказавшись в полнейшем вакууме, Петровская как-то прожила в Берлине до мая 1927 года, после чего с огромными трудностями перебралась в Париж. Там она пыталась работать в социальном учреждении Армии спасения, раздавая нищим суп, но это занятие ей быстро наскучило. В очередной раз ударившись во все тяжкие — в наркоманию и алкоголизм, — Нина Петровская стремительно покатилась туда, куда так часто попадала в прежние годы своей непутевой жизни, — то есть на дно. Конец не заставил себя долго ждать. В ночь на 23 февраля 1928 года Петровская вошла на кухню третьеразрядного отельчика, в котором обитала, и, поплотнее закрыв дверь в коридор, открыла газовый кран. Труп обнаружили соседи по распространявшемуся по зданию запаху. Самоубийце было не то сорок восемь, не то сорок девять лет. На сколько она выглядела — свидетельств, за исключением оценок вроде «ужасно», не сохранилось.
Зато сохранились некрологи. В одном из них, помещенном в газете «Дни» за 25 февраля 1928 года, в числе прочего говорилось:
«Кончилась ее подлинно страдальческая жизнь, <…> и эта жизнь — одна из самых тяжелых драм в нашей эмиграции. Полное одиночество, безысходная нужда, нищенское существование, отсутствие самого ничтожного заработка, болезнь — так жила Нина Петровская, и каждый день был такой же, как предыдущий, — без малейшего просвета, безо всякой надежды. <…> Вынужденная жить буквально подаянием, помощью отдельных писателей, <…> одинокая и забытая, она не выдержала этой жизни, сложившейся для нее особо несчастно».
Некролог не был подписан, но по стилю легко угадывается рука Владислава Ходасевича, имевшего к газете «Дни» непосредственное отношение. Тот же Ходасевич оставил и получившие широкую известность воспоминания о Нине Петровской. В этом эссе, озаглавленном «Конец Ренаты» (под таким именем Петровская была выведена в аллегорическом романе Валерия Брюсова «Огненный ангел»), размышляя о причинах, побудивших его старинную знакомую свести счеты с жизнью столь страшным образом, автор «Тяжелой лиры» писал:
«Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное — “поэму из своей личности”. Конец личности, как и конец поэмы о ней, — смерть».
Как ни цинично это звучит, но смерть людей, подобных Петровской, приносит их знакомым гораздо больше облегчения, чем огорчения. Их стараются как можно быстрее закопать и забыть — слишком уж тяжелы связанные с ними воспоминания. Так произошло и с Ниной Петровской. Ее похоронили, и о ней забыли. Но, как оказалось, не навсегда. Всего на шестьдесят лет.
***
Возрождение интереса к жизни и творчеству Петровской произошло в конце 1980-х годов. В ту пору стали постепенно приоткрываться двери советских архивов, и из них стало вылезать на свет божий кое-что любопытное.
В числе прочего этим «кое-чем» оказался и манускрипт «Воспоминаний» Нины Петровской, обнаружившийся в фондах Государственного литературного музея (ГЛМ) в Москве. Выяснилось, что рукопись попала туда еще в 1934 году и с тех пор лежала за семью замками и под семью печатями, хотя ничего такого «крамольного» — исходя из представлений литературоведов в штатском — она, разумеется, не содержала. Как она туда попала, какими неведомыми путями — бог весть. Главное, что сохранилась. И спустя пятьдесят пять лет была наконец опубликована — в 8-м выпуске исторического альманаха «Минувшее», издававшегося в ту пору в Париже Владимиром Аллоем. Публикатором была итальянская славистка, профессор Миланского университета Эльда Гаретто.
Затем настал черед и публикаций на родине Петровской. Первоначально они были немногочисленными, в основном в специализированных литературоведческих изданиях. В 2004 году появилась и первая книга — огромный том переписки Петровской с Валерием Брюсовым, подготовленный к изданию Николаем Богомоловым и Александром Лавровым.
А еще через десять лет вышло и полное собрание сочинений Нины Петровской. Московское издательство «Б.С.Г.-Пресс» выпустило книгу «Разбитое зеркало» — по названию сборника ее рассказов, который вроде бы готовился к изданию в Москве в 1914 году, но не был выпущен из-за вскоре начавшейся Первой мировой войны и всех последовавших вслед за этим российских катаклизмов.
В огромный, без малого тысячестраничный том вошло все, что от Петровской осталось. Точнее — все то, что удалось обнаружить и с уверенностью атрибутировать. Последнее выполнить несложно, поскольку никакими вычурными псевдонимами Нина Ивановна не пользовалась и подписывала свои произведения или подлинным своим именем, или образованным от него криптонимом.
Книга делится на две неравные по объему части. В первой, большей, находятся беллетристика, газетная публицистика и эссеистика Нины Петровской; во второй, меньшей, — принадлежащие ее перу рецензии и литературные обзоры. Обеим частям предпосланы обширные сопроводительные статьи, написанные совместно составительницей тома Марией Михайловой и Ольгой Велавичюте. Они же — соавторы и в обширнейших комментариях. Комментарии эти вообще являются украшением издания — настолько они детализированы и информативны. Почти для всех включенных в книгу сочинений Петровской в них указаны не только точные места и годы первопубликации, но и все прочие сведения, которые библиографические материалы обязаны содержать. Не говоря уже об именном указателе и списке рецензированных Петровской книг и периодических изданий.
В целом же, если судить по столь милому сердцу Виктора Шкловского гамбургскому счету, книга «Разбитое зеркало» является наглядным примером того, как именно следует такие книги издавать. И даже не примером, но — образцом.
***
Случись такая книга в России лет шестьдесят назад, она стала бы изрядной сенсацией и наверняка была бы сразу же запрещена к свободному обращению. Случись лет тридцать тому — была бы заметным явлением и продавалась бы не хуже какого-нибудь Пикуля. Но эти времена в прошлом. Ныне, по прошествии без малого столетия со времени завершения земного пути ее автора, книга эта не может претендовать ни на что более существенное, чем стать явлением в узкой среде — профессиональных литературоведов и историков культуры Серебряного века и русского зарубежья. А поскольку здание виртуального дворца Истории, как и здания обыкновенных домов и дворцов, возводится из тщательно подогнанных друг к другу кирпичей, не подлежит никакому сомнению, что «кирпич» под названием «Разбитое зеркало» займет свое, одному ему предназначенное место в одной из стен этого сооружения. И за это — низкий поклон и сердечная благодарность всем тем, от кого зависело его появление. Поскольку без Нины Петровской история российской изящной словесности неполна так же, как и без имен тех несправедливо забытых ее представителей, чьи архивы еще ждут своего изучения и издания.
Нина Петровская. Разбитое зеркало. Проза. Мемуары. Критика. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014. 960 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
ЛитератураЭкспериментальная лирика Моники Ринк плотно связана с опытом графических искусств
12 сентября 2021218 Современная музыка
Современная музыкаПевица Саша Виноградова и виолончелистка Алина Ануфриенко — о совместном импровизационном альбоме «Око» и его терапевтическом эффекте
10 сентября 2021239 Театр
Театр Современная музыка
Современная музыкаЖизнерадостный нуар в духе саундтреков к фильмам Линча и Финчера: оригинальная музыка к сериалу от московских кинокомпозиторов
10 сентября 2021615 Современная музыка
Современная музыка«По мановению бумажки люди превращаются в инолюдей»: премьера клипа творческих наследников Петра Мамонова из Екатеринбурга
9 сентября 2021121 Литература
Литература Современная музыка
Современная музыка«Первая в истории якутянка на сцене “Евровидения”» — о дебютном альбоме, участии в телеконкурсах, работе с Manizha и предвзятом отношении
8 сентября 2021249 Общество
ОбществоПодлинная история Иисуса, Будды, Мирового змея и Древа познания, пересказанная коммунистом Сергеем Мининым из нервно-психиатрического санатория «Сокольники». Публикация Сергея Бондаренко
8 сентября 2021180 Литература
Литература Современная музыка
Современная музыкаАнализируя противоречивую карьеру Канье Уэста, Руслан Муннибаев напоминает нам о том, что американский артист — один из самых изобретательных музыкантов от хип-хопа
7 сентября 2021170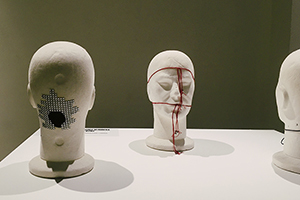 Общество
Общество Академическая музыка
Академическая музыкаФилармония открыла сезон российской премьерой Булеза. «Зарядье» ответило «Концертом насекомых»
6 сентября 2021159