Илья Клишин опубликовал на Carnegie.ru очень важную статью «Самиздат и замещение: растут ли из соцсетей революции». В ней он сопоставляет динамику распространения соцсетей с ростом протестного движения. Точнее, с очевидным отсутствием этого роста. На основании этого сопоставления Илья делает вывод, что проникновение интернета вовсе не приводит к протестам, как это считалось несколько лет назад: «причинно-следственная связь между развитием интернета и революциями не так уж и очевидна». Соответственно попытки журналистов окрестить протесты «твиттер-революцией» или «фейсбук-революцией» поспешны. На самом деле соцсети создают лишь техническую возможность общественной дискуссии, задавленной в офлайне, а причины разогрева этой дискуссии — социально-экономические. «Законы социологии работают как законы физики. Как масло распределяется по воде определенным образом, так и средний класс в странах, приближающихся к процветанию, неизбежно стремится к созданию горизонтальных структур. И не вина Фейсбука, что он позволяет это сделать чуть быстрее. Не так, так эдак, с сетью или без они все равно возникли бы» — таков вывод Клишина.
Признавая важность темы и хорошую проработку данных, хочу все же отметить, что выводы, которые делает Илья, — об отсутствии причинно-следственной связи между интернетом и протестами — если не ошибочны, то преждевременны. На мой взгляд, допущены две методологические ошибки.
1) Media effect, конечно, надо измерять в масштабе не лет, а эпох. Даже если эпохи теперь длятся несколько лет — у них все равно другая логика исторической размерности.
2) Самое главное. Интернет надо связывать не с протестами, а с конфликтами, которые проявляются как в форме протестов, так и в форме охранительской реакции на протесты. Протесты — всего лишь одно из проявлений этого противостояния.
Итак, существует ли причинно-следственная связь между распространением соцсетей и протестами? Или они просто совпадали по времени? Это интересно не только для описания, но и для прогноза.
Первая важная деталь, которую всегда упускают как апологеты, так и критики понятия «твиттер-революция»: в 2011—2012 годах, то есть примерно в конце первой декады распространения соцсетей, волна протестов прокатилась по всему миру, не обойдя и благополучные страны, даже США (Occupy Wall Street). Нечто общее спровоцировало протесты образованной молодежи практически везде, включая вотчину самого Госдепа (миф о руке Госдепа, кстати, даже его критикам мешает увидеть сходство протестов в Каире, Москве и Нью-Йорке). И это общее, конечно же, вовсе не формирование среднего класса. Я собрал и сгруппировал для наглядности наиболее резонансные протесты этой волны в абсолютно разных по устройству и благополучию странах. Безусловно, в каждом случае есть свой национальный колорит и нюансы — но есть и общее.
И вот это общее: ядро протеста везде составляла образованная, точнее сказать, оцифрованная молодежь (образованная молодежь оцифровалась раньше других). Но самое главное — все эти протесты вызваны не новой идеологией, не новой политической силой, не новым классом, а новой морфологией формирования авторитета. Именно поэтому протестующих везде обвиняли в отсутствии программы, целей, организации и т.п. — это тоже везде было одинаково. Безусловно, протесты так или иначе затрагивали политику или использовались политиками, но конфликт режимов и протестующих, повторюсь, везде имел морфологическую природу.
Что это за чудо — морфологический конфликт?
В старом, институциональном, обществе, основанном на трансляционной медиамодели, авторитет формируется и распределяется вертикально. В сетевой же среде авторитет формируется горизонтально. В этих различных структурах и социальная гравитация действует по-разному. Вертикальная гравитация институционального мира формирует пирамиду с давлением сверху вниз. В сетевой среде атомарные социальные притяжения собирают участников в клубящиеся облачные сгустки авторитета. Расположение в сгустке относительно его центра дает участнику большее или меньшее признание (гегелевское recognition), что, конечно, открывает куда более заманчивую перспективу, особенно для молодежи, нежели борьба за признание в отлаженной и всегда занятой другими институциональной иерархии.
Вот эти различные способы формирования авторитета и определяют морфологический конфликт между сетевой средой и институциональным миром. Эти две формы соорганизации неизбежно конфликтуют, стоит им только достичь сопоставимых размеров (см. «О недоумении институтов по поводу сети»).
В нормальной ситуации, до соцсетей, горизонтальная соорганизация людей существовала в ограниченных сферах, как отмечает, например, Клей Ширки (Clay Shirky) в своей книге «Cognitive Surplus». Это разного рода клубы, товарищеские сообщества, неформальные объединения, начинающие банды, волонтерские движения, хобби-сообщества и т.п. Сложность одновременной прямой коммуникации между всеми (peer-to-peer) была естественным ограничителем масштаба для сетевого принципа формирования авторитета. Он не мог существовать в больших коллективах. Если сообщество равных разрасталось, в нем появлялась пирамидальная иерархия с вертикальной гравитацией — авторитет застывал в бюрократических, институциональных формах, отчуждаясь от личности.
Ядро протеста везде составляла образованная, точнее сказать, оцифрованная молодежь.
Интернет снял эту техническую проблему. Соцсети взрывным образом распространили принцип горизонтального формирования авторитета на сколь угодно огромные массы людей — сейчас уже больше 3 млрд, почти половина человечества. Облако обволокло пирамиду.
Дальше произошло вот что. В открытых обществах горизонтальное формирование авторитета — не невидаль (что, кстати, Илья справедливо отмечает в своей статье). В открытых обществах есть привычка к несанкционированному мнению, есть иммунитет толерантности. Есть, наконец, ощущение закрытости личного пространства — чужое мнение не причиняет травм, не вызывает ответного желания убить. Больше того, институциональные устройства открытых обществ сами по себе содержат сетевые вкрапления — достаточно вспомнить Tea Party (и это в консервативном спектре политического диапазона) и прочие grassroots movements. Поэтому открытые общества более-менее переварили новинку. И хотя конфликт сетевой и институциональной медиаморфологий там все равно продолжается, но он проходит в канализированных формах — государство против Wikileaks, например.
А вот в закрытых обществах распространение соцсетей привело не только к протесту, но и к реакции на протест. Интернет предоставил возможность транслировать негативную реакцию масс на протесты точно так же, как он поспособствовал самим протестам. Интернету в этом плане все равно, кто им пользуется.
Причина массовой реакции ресентимента заключается в том, что горизонтальные принципы формирования авторитета, распространяясь в закрытых обществах, дают «другим равным» право не по заслугам, а по активности, спутывают картину мира, сбивают с толку, в общем, вызывают раздражение и обиду (см. «Раздраженные интернетом»). Какое право имеет филолог, а не ракетчик, судить о метеорите? Кто такой этот Навальный — и сам-то каков? Выход права на авторитет за институциональные рамки в этой системе взглядов недопустим. Переход авторитета в личное владение равных — неприемлем.
Это раздражение объективно возникает из привычки — прежде всего масс, а не только властей — к вертикальному отчужденному авторитету. Ведь вертикальный авторитет создает в «своей» клиентелле понятную систему ценностей с гарантированной поэтажной долей символического признания. В общем, режим и массы везде оказались заодно (или, как вариант, — традиция и массы).
Еще больший шок случится, когда появится межъязыковой браузер со встроенным незаметным переводчиком, позволяющий свободно передавать информацию между национальными культурами без усилий со стороны получателя.
Поэтому дальнейший рост интернет-потребления, объективно идущего вширь и вниз по социальной пирамиде, на нынешней стадии способствует не росту протестов, а, наоборот, росту реакционизма и охранительства. Хоть термин «интернет-ополчение» и введен Ашмановым («Сформировалось государственническое интернет-ополчение»), но это явление объективно возникло как солидарная реакция масс и режимов на вызовы горизонтальных принципов формирования авторитета. Кто и как использует, а то и пестует эту солидарность — это уже вопрос уровнем ниже — политический (или коммерческий).
В общем, всемирная волна протестов 2011—2012 годов постепенно схлынула везде с разными последствиями — где-то сгладилась естественной рябью, где-то задушена сомкнувшейся гладью болота.
Но на этом дело не успокоится. Как пишет Илья Клишин, наибольшая соцсетевая активность отмечается именно в странах третьего мира. Да, это сублимационное вытеснение: не имея доступа к механизмам формирования авторитета в офлайне, который занят вертикалью институтов, те, кто пытается завоевать горизонтальный авторитет, продолжают бузить в онлайне.
Дальше будет вот что. После первой волны протестов, когда сладостную отраву горизонтального формирования авторитета отведала образованная городская молодежь, пойдет вторая волна протестов, когда сладость самочинного авторитета распробует необразованная городская окраина. Эта городская окраина всегда была оттеснена на задворки авторитета — как институциональной традицией, так и креативным классом. Теперь сеть в широком смысле захватывает городскую окраину, призывая ее: «you can play this game too» (Клей Ширки). Признаки этих протестов нового типа уже обозначились — бунт лондонских окраин Blackberry Riot (2011), Фергюсон (2014), Донбасс (2014), далее везде.
Подобные масштабные процессы, кстати, можно было наблюдать в XV—XVII веках, после того как печатный станок Гутенберга освободил частное чтение — прежде всего, частное чтение Библии, вокруг которой строилась духовная и политическая жизнь. Возник точно такой же морфологический конфликт между горизонтальным и вертикальным принципами формирования авторитета. В результате, если брать крупными мазками, горизонтальное, то есть «сетевое», прочтение Библии потрясло основы, но все же в значительных объемах было выдавлено из Старого Света вертикальным, «институциональным», прочтением Библии.
Всемирная волна протестов 2011—2012 годов постепенно схлынула везде с разными последствиями — где-то сгладилась естественной рябью, где-то задушена сомкнувшейся гладью болота.
Любопытно также, что сторонники «сетевого прочтения Библии», заселив целых три континента, сами потом институционализировались, хотя, конечно, на более свободном уровне горизонтальных отношений. Но и оставшиеся в Европе сторонники «институционального прочтения Библии», отвечая на вызов частного чтения, модернизировали свои институты, приблизив их к более свободным сетевым принципам формирования авторитета. В общем, сложился некий новый баланс принципов формирования авторитета. Все успокоилось до следующей медиареволюции, освободившей спустя пять веков не чтение, а авторство, дав миллиардам людей возможность сообщать свое неподготовленное, профанное мнение далеко за пределы своего физического окружения.
Последствия этого нового освобождения контента как раз и проявляются в первой волне протестов, в наступившей реакции, в грядущей второй волне протестов, а также в более глобальных мировых процессах, в том числе в распространении реакционного экстремизма и нового Средневековья. Еще больший шок случится, когда появится межъязыковой браузер со встроенным незаметным переводчиком, позволяющий свободно передавать информацию между национальными культурами без усилий со стороны получателя, что выведет частное авторство миллиардов и его разрушительный потенциал на совершенно немыслимые технические высоты.
Примерно такова связь между распространением интернета и развитием протестов. Она нелинейная — и нарезать ее для осмысления надо эпохами, а не погодовой статистикой. Морфологический конфликт между двумя медиамоделями — старой трансляционной и новой вовлекающей — продолжается. Во многих странах пройдет новая волна протестов, совсем других. Она сокрушит несколько государств, перекроит карту мира и даже нанесет существенный урон самому принципу национального государства.
Что еще почитать о связи между медиа и протестами в России и мире? Например:
Martin Gurri. «The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium». 2014
Andrey Miroshnichenko
1) Рецензия на книгу Гурри «The Revolt of the Public and Media Ecology»
2) «Human as media. The emancipation of authorship». 2013
Понравился материал? Помоги сайту!
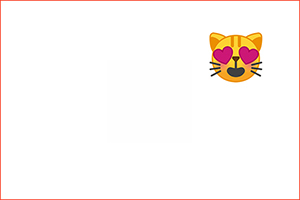 Молодая Россия
Молодая Россия






































