 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?
Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202317298 © Re:formers
© Re:formers1 ноября в рамках фестиваля Re:formers в Москве выступила Маргарет Ленг Тан — ученица Джона Кейджа и прямая «наследница» его философии и взглядов на музыку, «дива авангардного фортепианного исполнительства» (по выражению The New Yorker). На концерте в основном звучала написанная для Маргарет музыка: грандиозный цикл «Метаморфозы, книга I» Джорджа Крама, а также феерия авангардных пьес с участием игрушечного фортепиано, музыкальных шкатулок, чертика из табакерки, велосипедных звонков, клоунского носа и поролоновой короны статуи Свободы. Перед мастер-классом, состоявшимся в Московской консерватории на следующий день, Маргарет дала публичное интервью. Мы публикуем его расшифровку.
— Вы начали играть на фортепиано в шесть лет. Можете ли вы сказать, что ваша семья была нацелена на то, чтобы вырастить вундеркинда?
— Прежде всего, я никогда не была вундеркиндом. Я была обычным шестилетним ребенком, которому приспичило начать играть на фортепиано. Позже выяснилось, что заниматься страшно скучно, я ненавидела это всей душой и хотела прекратить; но из-за того, что я так выпрашивала эти уроки с самого начала, мне было стыдно бросать, и я молчала.
Преподавание фортепиано тогда имело мало общего с творчеством. Это было академично, формально и жестко: совсем не то, что мотивирует ребенка к развитию и исследованию. До сих пор я не понимаю: зачем в шесть лет зубрить квинтовый круг и все тональности, все диезы и бемоли в правильном порядке? Малышу они совершенно не нужны.
Не знаю, как это устроено в России, но в Сингапуре большинство семей среднего класса считает обязательным учить ребенка играть на фортепиано; это традиция, оставшаяся с тех времен, когда мы были британской колонией. После десяти дети чаще всего бросают, поскольку теряют интерес; у меня же вышло так, что к этому возрасту я как раз заинтересовалась игрой на инструменте. Но я также занималась балетом и несколько лет не знала, кем хочу стать — балериной или пианисткой. Потом фортепиано пошло лучше, и я решила заниматься музыкой.
— Тогда вас интересовал классический пианизм — Рахманинов и т.д., верно?
— В 12 я была недостаточно продвинутой для того, чтобы играть Рахманинова, но да — Шопен, Бетховен, Шуберт; никакой авангардной музыки. Ее не было для меня еще долгие десятилетия.
— Расскажите о вашем переезде из Сингапура в Нью-Йорк.
— Мне было 16, когда я приехала поступать в Джульярд — и поступила. Все это было грандиозным приключением. Я горячо советую всем, кто собирается переезжать за границу жить или учиться, делать это в юности, когда ты еще ничего не боишься. Я приехала одна; когда родители отправили меня в Нью-Йорк, я не знала в городе никого. Жизнь была сложной, но в чем-то — очень простой. Нью-Йорк 60-х был совсем другим городом, нежели сегодня. Прежде всего, это был довольно опасный город: преступности было куда больше. Тем не менее со мной ни разу ничего не произошло, я жила полностью защищенной жизнью. Когда ты учишься в консерватории, ты обитаешь в золотом аквариуме: вся твоя жизнь полностью регламентирована. Ты занимаешься, ходишь на уроки к профессору, на лекции и обязательно на концерты. Эта жизнь не совсем настоящая, но ведь и здесь, в Московской консерватории, студенты наверняка живут так же? Вот и я либо занималась, либо шла в Карнеги-холл. Посещать концерты было принято каждую неделю, иногда чаще. В отрочестве я слушала самых легендарных, самых ослепительных пианистов, приезжавших в Нью-Йорк, — Артура Рубинштейна, Эмиля Гилельса, Святослава Рихтера; во время знаменитого концерта-возвращения Владимира Горовица в 1965 году я была одним из тех студентов, которые стояли за билетом ночь напролет. Это была дивная эпоха.
— Когда вы повзрослели?
— Когда наконец окончила Джульярд. Я оставалась максимально долго, потому что мне там нравилось: жить этой спланированной жизнью было удобно. Но в какой-то момент нужно уйти — думаю, только тогда начинается настоящая человеческая жизнь. Я получила докторскую степень в 24 года. Да-да, я окончила Джульярд с докторской степенью и оказалась первой женщиной в истории, сделавшей это, — а сейчас мне 71, и я играю на игрушечном фортепиано, понимаете? (Смеется.)
— После окончания Джульярда вы все еще не помышляли об авангардной музыке?
— Авангард пришел в мою жизнь после знакомства с Джоном Кейджем: я встретила его в 1981 году. Эта встреча была не просто важной. Она полностью переменила мой взгляд на то, что такое музыка, а также вообще на жизнь. Кейдж был человеком, глубоко погруженным в восточную культуру и философию, и меня, азиатку, он учил этому мироощущению. Он по-настоящему понимал дзен-буддизм и научил меня смотреть на мир сквозь эту оптику. «Научил» — неверное слово: Кейдж никогда никого не учил, он не был учителем в западном смысле. Он был, скорее, ментором, наставником. Невозможно понять его музыку без того, чтобы понять или хотя бы попытаться понять его взгляд на мир; для этого нужно не просто слушать, но, в первую очередь, читать его.
Чтобы не быть голословной, я могу привести примеры вещей, которые я слышала от Кейджа. Я считаю, что в этом есть удивительная мудрость; возможно, вам захочется записать эти слова. Одна из этих мыслей связана с дзенской идеей принятия. Человеку, говорил Кейдж, свойственно любить и не любить какие-то вещи и явления. Но очень важно научиться полностью одинаково принимать то, что вызывает в тебе любовь и отторжение.
Еще один пример — его понимание того, что такое ошибка. Кейдж определял ошибку как нашу неспособность мгновенно подстроить ожидания к реальности. Вдумайтесь: ведь это удивительно милосердная философия. Она учит тебя самому сложному, а именно — быть добрым к себе. В рамках такого мышления не существует фальшивых нот.
— Как произошла ваша встреча? В 1981 году вы ведь знали, кто он?
— Да нет, конечно, ничего я не знала. Вернее, знала, но, если бы я осознавала по-настоящему, кто он, я бы ни за что не сделала то, что сделала. А именно — отыскала его в телефонной книге (тогда это было возможно), подняла трубку и набрала номер.
— Что? Так вы познакомились с Кейджем?
— Ну я же не знала, насколько он знаменит. Иначе бы я не решилась. Есть чудная английская пословица — fools rush in where angels fear to tread. По-русски есть такая?
— У нас немного иначе — про дураков, которым везет в игре. Но как именно произошло знакомство?
— Ладно, если вы хотите всю историю — я расскажу; она довольно смешная. Итак, вот я, молодая классическая пианистка, выпускница Джульярда. Я чувствую, что это амплуа мне начинает надоедать. Я готовлюсь к очередному турне: поскольку оно было азиатским, я решила составить новую программу и сыграть не только великих мертвых белых мужчин, но и для разнообразия некоторых живых. Программа состояла из сочинений западных композиторов, которые находились под влиянием восточных культур. Мне казалось, что азиатской аудитории это будет близко и интересно — увидеть себя в зеркале западной музыки. Она начиналась с Дебюсси и продолжалась Мессианом; логично, что следующим именем был Кейдж. Его сочинения хранили мощный отпечаток восточного мышления, он был изобретателем подготовленного фортепиано, которое, как известно, звучит словно яванский гамелан.
Тогда у меня гостила подруга, приехавшая из Малайзии, танцовщица. Слушая, как я занимаюсь одной из кейджевских пьес для подготовленного фортепиано, она спонтанно придумала под нее пластический номер. Он родился совершенно сам собой: как будто музыка задела в ней струну. И я почему-то подумала: «Так! Джон Кейдж просто обязан увидеть то, что у нас получается».
Я нашла его номер и позвонила. Заставить его согласиться на первую встречу было, мягко говоря, непросто. Он отнюдь не был со мной светским и милым. Вначале он просто сказал: «Я уезжаю в Европу. Всего хорошего». Я дождалась его возвращения и перезвонила. Тогда он сказал: «Что? Извините, не припоминаю». В одну из следующих моих попыток, чтобы избавиться от меня, он сказал: «Вы же не думаете, что я буду смотреть на все это в чьей-то гостиной». Каждый раз это был конец разговора.
Тут в дело вмешалась судьба. Вообще, чтобы чего-то добиться в этом мире, надо быть в нужном месте в нужное время, иметь правильные знакомства и только чуточку таланта. В автобусе на Бродвее я встретила старого знакомого — декана из Джульярда, которого не видела несколько лет. Мы разговорились; оказалось, что он едет в «мою» часть света, на Бали. Он никого не знал там, и я сказала: у меня есть балийский приятель — архитектор, у него прекрасный дом, я с удовольствием вас познакомлю. Через несколько недель декан вернулся с Бали совершенно счастливым: мой знакомый разместил их у себя, показал им остров, словом, поездка была удачной. «Маргарет, — сказал он, — если я могу что-то сделать для вас, скажите». Я ответила: да, у меня есть просьба — вы не могли бы предоставить мне помещение в Джульярде, чтобы я показала одну нашу работу Джону Кейджу? И я получила не просто репетиционное помещение, а театральный зал на тысячу мест, самую роскошную площадку в Джульярде. Я позвонила Кейджу еще раз, и в этот раз он не смог от меня отделаться. И вот — назначенный день. Он появился точно вовремя, и мы выступали для него — одного-единственного человека, сидевшего в пустом зале на тысячу мест.
— Вам было страшно?
— Скорее, это было чувство дикого азарта, нежели страха. Мы показали ему наш получасовой номер, и произошло нечто невероятное: он был буквально очарован, просто влюбился в то, что мы придумали. Он даже прислал нам стихотворение, основанное на наших именах. Кейдж любил жанр мезостиха — когда в горизонтальный поэтический текст посередине, как позвоночник, встроены слово или фраза, которые читаются сверху вниз: в данном случае — наши имена. Я все еще храню это стихотворение. В тот момент, не осознавая масштаба его личности, я не понимала, какой комплимент он делает нам; а ведь он предложил поставить похожий номер по «Сонатам и интерлюдиям» — одному из центральных опусов всей его жизни, длиной свыше часа. Он сказал: «Вам серьезно стоит подумать о том, чтобы взяться за “Сонаты и интерлюдии”; во время интерлюдий Марион (Марион Д'Круз, одно из важнейших имен в сфере современного танца в Малайзии. — Ред.) могла бы переодеваться, а вы — играть соло». Вы можете представить себе, что он доверил нам подобное? К сожалению, этой идее не суждено было сбыться, потому что Марион уехала обратно в Малайзию.
Все это было в июле 1981 года. В 1982-м, во время семидесятилетнего юбилея Кейджа, состоялось большое чествование: 12-часовой марафон его музыки в Нью-Йорке. Кейдж хотел, чтобы мы открывали его вместе с ним, однако Марион уехала, осталась только я. Тогда мы открыли марафон с ним вдвоем: в течение первых тридцати минут я играла разные пьесы для подготовленного фортепиано, меняя инсталляцию внутри инструмента, в то время как Кейдж читал свои тексты.
Таким было начало 11-летних сотрудничества и дружбы, которые объединяли меня с Кейджем. Я работала с ним вплоть до дня, предшествовавшего его смерти: на следующий день после того, как мы в очередной раз распрощались, у него случился обширный инсульт. Я написала о нашей последней встрече эссе, которое вышло в «Нью-Йорк таймс» в 1993 году, в первую годовщину его смерти.
— Каким человеком он был?
— Когда я узнала его, он был уже очень, очень знаменит и уважаем. Все относились к нему с трепетом, он был настоящим гуру, и люди благоговели перед ним, восхищались им, принимали все его художественные проявления: ему не нужно было больше бороться.
(Долгая пауза.)
Кейдж был исключительно теплым человеком. Он много смеялся, у него была фантастическая улыбка; когда ему что-то нравилось, он всегда восклицал: «Ну разве не здорово?!» («Isn't that wonderful?!»). В Кейдже было что-то от ребенка: ощущение жизни как чуда, принятие без рассуждения, безумное любопытство ко всему. Я никогда не видела человека его масштаба, который с такой неутомимостью ходил бы на концерты молодых композиторов и исполнителей. Он был святым покровителем нью-йоркского авангарда и был вездесущ: ты приходил на концерт или перформанс, который нигде не освещали, и встречал Кейджа. Ему было интересно все новое, что происходило в музыке, и он поддерживал то, что ему нравилось, до самого конца.
 © Re:formers
© Re:formers— Каким для вас был главный его урок?
— Как и для всего мира, он полностью переопределил для меня понятие «музыка». Он так расширил его, что оно стало включать тишину и шум, звучание сломанных, случайных, выброшенных цивилизацией предметов — любых объектов, которые могут производить звук. В 30-е он сделал целый оркестр из цветочных горшков и кофейных жестянок — вещей, извлеченных из помойки, — звучавших экзотично и необыкновенно. Так он пришел к музыке для ударных, так создал для них целый корпус литературы.
То, как Кейдж использовал «найденные объекты» (found objects) в своей музыке, сродни их роли в изобразительном искусстве — в ассамбляжах или скульптурах вроде «Козы» Пикассо, живот которой сделан из корзинки, или сродни тому, что делал Марсель Дюшан. Все это были люди, которые в ХХ веке начали осознавать окружающий мир как искусство: не вдохновение, не импульс для творчества, но искусство само по себе.
Так я и пришла к игрушечному фортепиано. В 1948 году Кейдж создал для него свою знаменитую «Сюиту». Это был первый прецедент серьезной музыки для игрушечного фортепиано. Эта маленькая, удивительной красоты пьеса задействует только девять «белых» нот. Однако Кейдж пользуется ими с такой изобретательностью, что эта пьеса, звучащая очень просто, на самом деле дьявольски сложна. «Сюитой для игрушечного фортепиано» надо по-настоящему заниматься, чтобы она звучала убедительно. Кейдж требователен к пианисту: он пишет три пиано и три форте, акценты, стаккато, подробнейшие указания, которые сделали бы честь «настоящему» сочинению. В этом его хитрость: дело в том, что все это, в сущности, невозможно выполнить на игрушечном фортепиано. Однако, выписывая все эти детали, Кейдж заставляет тебя не просто играть ноты, а работать в поте лица. От твоего усилия, от жажды воплотить все эти штрихи и тончайшие динамические градации звуковой результат становится иным. Происходит необъяснимое: в голосе детской игрушки что-то появляется лишь потому, что ты очень к этому стремишься, и пьеса звучит совершенно не так, как если бы ты не старался. Работая над «Сюитой», я вдруг поняла, что у игрушечного фортепиано есть потенциал превратиться в настоящий, полноправный сценический инструмент. Это и было началом пути: так я стала «игрушечной» пианисткой.
— Вы можете сказать, что с момента смерти Кейджа авангард стал более мейнстримным?
— Кейджа нет в живых уже свыше четверти века. Его влияние на культуру второй половины прошлого столетия и начала нынешнего просто невозможно измерить: оно не поддается оценке. Новая музыка жива и здравствует: безусловно, ее аудитория растет. Множество идей Кейджа оказалось впитано следующими поколениями. Не подозревая о том, что они находятся под его влиянием, многие музыканты являются продолжателями наследия Кейджа. Без него невозможны были бы мультимедийные искусства; нам не пришлось бы выкладывать приличную сумму за билет на концерт, где длинноволосые ребята играют белый шум. С современными технологиями мы входим в новое музыкальное время, где возможно абсолютно все. И в этом — главное наследие Кейджа: он подарил людям искусства смелость быть самими собой. Он проломил стены, незыблемо стоявшие веками: после Кейджа в музыке действительно нет «можно» и «нельзя».
Если вдуматься, нет ничего комичнее: мне 71, и моя профессия — «игрушечная» пианистка, понимаете? Какая-то ерунда! Однако вчера посмотреть на то, как я играю на «игрушке», собрался полный зал. Я начала развивать игрушечное фортепиано после смерти Кейджа, то есть играю на нем больше двух десятков лет. Пожалуй, мое единственное сожаление — что он не увидел, как много мне удалось сделать в этой области. За эти двадцать лет я превратила его в серьезный инструмент: другие люди теперь могут строить в этой области карьеру, появился репертуар. То и дело я получаю письма с просьбой помочь достать ноты; я вижу, что формируется целая исполнительская среда. Когда я умру, это не будет иметь никакого значения, поскольку школа и музыка уже существуют. Без Кейджа я бы не сделала ничего этого. Он дал — не только мне, множеству художников — разрешение на то, чтобы без оглядки на правила, без страха исследовать новые территории. Если вы верите в силу своих убеждений, нет человека, который посмеет осудить или осмеять вас. За двадцать лет ни один человек, ни один критик, ни один комментатор — никто не сказал мне, что я занимаюсь бессмысленным трюкачеством. Все потому, что я глубоко верю в то, что делаю, и воспринимаю свой инструмент с глубочайшей серьезностью; все это только из-за Джона Кейджа.
— Многие из сочинений, звучавших вчера, написаны для вас. Как строится ваше сотрудничество с композиторами?
— Это настоящее счастье: композиторы используют меня как орудие эксперимента. Это касается и игрушечного, и «большого» фортепиано: например, эффектов, достижимых с помощью расширенных техник игры. Есть авторы, которые спрашивают меня, какую пьесу я хотела бы от них получить. В эти моменты я чувствую, что в моих руках появляется волшебная палочка. «Мне хотелось бы написать для вас что-то, — говорят они. — У вас есть идея, которую вы хотели бы воплотить?» Я сказала Эрику Грисволду: наверное, здорово было бы попробовать пьесу с велосипедным звонком! И вуаля — у меня есть пьеса для звонка, клаксона и паровозного свистка с игрушечным фортепиано. Я всегда обожала карусели — и вот Филлис Чен пишет для меня эту восхитительную пьесу «Карусели» для игрушечного фортепиано и музыкальных шкатулок. То, что композиторы готовы делиться со мной своим талантом, — потрясающая радость и честь. У игрушечного фортепиано есть еще одна прекрасная черта: я играю авангардную музыку, и люди, которые ни за что бы не пошли на «умный» концерт, оказываются в зале просто из любопытства («Что? Она играет на игрушечном фортепиано?»). После концерта они подходят и говорят: «Маргарет, спасибо, я же просто обожаю авангард!» Мне неловко их разочаровывать, и я не говорю им, что авангард — это совсем не всегда так весело.
— Рассказывая про Джульярд, вы сказали про неестественность жизни в «золотом аквариуме». Что бы вы посоветовали студентам-музыкантам, которые чувствуют, что живут этой ненастоящей жизнью?
— О-о-о, это вопрос на миллион долларов. Все, что я могу сказать, — занимайтесь, ходите на лекции, но не убирайте вашу антенну: будьте открыты тому, что доступно вам за пределами профессии, испытайте как можно больше искусства — изобразительного, пластического, любого. Я росла в эру без интернета, мне нужно было выйти из дома, чтобы искать этот опыт, — вы же действительно обладаете миром: вот он, на кончиках ваших пальцев; вы можете соприкоснуться с самым фантастическим, что есть в искусстве сегодня, не вылезая из пижамы.
Правда, иногда этот поток слишком велик. Поэтому вот второй совет: попытайтесь изредка отклеиться от экрана. Живите реальной жизнью в трехмерном мире. У меня, верите ли, нет мобильного телефона, и я знаю, что от этого я здоровее и счастливее. Недавно в Сингапуре я ходила на громадную выставку Яёи Кусамы. Галерея была набита молодежью; ни один человек не смотрел на ее объекты, все делали бесконечные селфи. В какой-то момент мне хотелось закричать им: да положите же вы телефоны, посмотрите наконец кругом — не на фотографию скульптуры или инсталляции, а на нее саму!
— Развитие технологий в начале ХХ века кардинально переменило искусство, в том числе музыку. Как вам кажется, начало цифровой эры сопряжено с похожими переменами?
— О да, интернет-революция фундаментально повлияла на музыку. Технологии дают нам возможность реализовать идеи, которые были у художников сто лет назад, однако были тогда неосуществимы. Искания и футуристические мечты многих — взять хотя бы «Механический балет» Антейла — теперь стали реальностью. Я, однако, не очень увлекаюсь музыкой, которая полностью зависит от технологий. Я все еще убеждена, что человеческий элемент в музыке обязателен и нисколько не устарел. Машины отлично справляются со многими вещами, но музыка не из их числа.
Возьмите пьесу Гласса или Райха и залейте ее в компьютерную программу: она блестяще сыграет все эти сложные паттерны, которые с такими усилиями даются живому ансамблю. Но это совсем не то, что пойти на концерт, где Гласса или Райха будут играть люди. Во-первых, живое исполнение такой музыки требует нечеловеческих концентрации и напряжения, и это усилие очень важно, оно сообщается слушателю. А во-вторых, пока машины не могут играть так, как мы, у меня есть работа (смеется).
— Кто из композиторов помимо Кейджа оказал на вас влияние?
— Он был главным. Кроме него — пожалуй, мне невероятно повезло знать Джорджа Крама. Знакомство с ним произошло через 16 лет после смерти Кейджа, и с тех пор у нас сложился настоящий творческий союз. Это сотрудничество совсем другого свойства, нежели то, что было у меня с Кейджем. Однако я обожаю музыку Крама, оригинальность его мышления и звукового мира. Еще одно имя — Генри Коуэлл, великий учитель Кейджа. Представьте только, что его пьесы, которые я играла вчера, сам автор с успехом исполнял в советской Москве в 30-е годы. Их и другие свои вещи — с игрой по струнам рояля. В Москве он был сенсацией! Да, самые важные для меня композиторы — три C: Кейдж, Коуэлл и Крам (Cage, Cowell and Crumb).
— Вы сказали, что Кейдж интересовался азиатской философией и привносил в нее свое мироощущение, тем самым способствуя взаимному проникновению Запада и Востока. За свою жизнь нашли ли вы собственную философию — как восточный человек, живущий в западном мире?
— Думаю, дожив до моих лет, человек неизбежно вырабатывает философию. Я могу сказать вам, что важнее — и труднее — всего в жизни. Это научиться быть добрым к себе. Я все еще ищу это чувство, и сейчас получается чуть лучше, чем в юности. Вот вам моя философия: осознать, что тебе предстоит много, очень много ошибок. Не бояться их. Понять, что только с ошибками приходит прогресс: очевидно, что после триумфального концерта я никак не развиваюсь, в отличие от плохого — или просто концерта, которым я недовольна. Очень сложно не казнить себя за это. Однако, пройдя стадию казни и найдя в себе силы обдумать причины, по которым что-то пошло не так (а они почти всегда есть), ты можешь что-то менять и идешь вперед. Именно поэтому провальное выступление, на самом деле, мне куда дороже успешного.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202317298 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202244608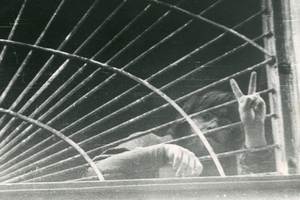 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202261089 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202237655 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 202289331 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202253423 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202238310