 Литература
ЛитератураПарсифаль в Белом доме
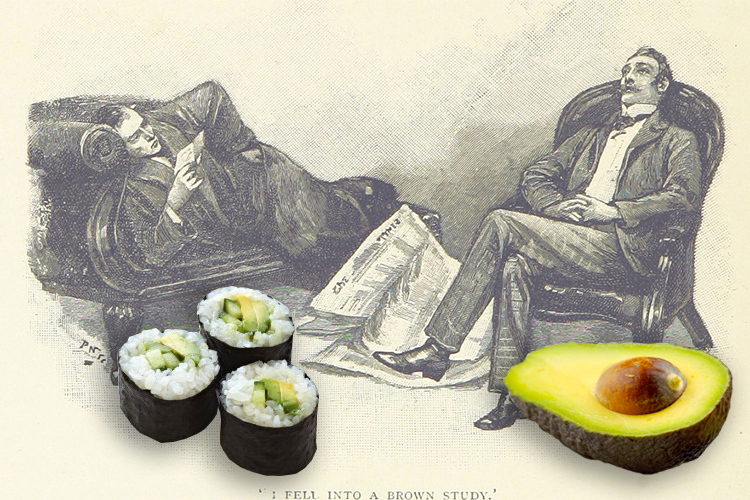 © The British Library
© The British LibraryНижеследующее будет отличаться от обычных моих текстов для Кольты — речь пойдет отчасти и о самом авторе. Впрочем, я постараюсь соблюдать известную дистанцию по отношению к описываемым фактам; в любом случае автор же тоже человек, так что и с ним иногда происходят какие-то интересные вещи, которые полезно обдумать. Никакой саморекламы, просто так вышло.
Недавно я дал интервью о Шерлоке Холмсе одному московскому изданию. Речь в нем шла о разных интересных для меня вещах — о рецепции Холмса в позднем СССР и постсоветской России, о том, какими могли быть политические взгляды детектива, о жестоком викторианском мире — и о вполне понятной аберрации, из-за которой этот мир ретроспективно воспринимается как «уютный», «безопасный» и даже «милый». В какой-то момент интервьюер спросил: кем сегодня мог быть Шерлок Холмс? Оказался бы он представителем продвинутой части населения со всеми ее модными привычками вроде вегетарианства? Меня несколько покоробила такая постановка вопроса: вегетарианство уж точно нельзя назвать «модной привычкой» — этому образу жизни несколько тысячелетий, он обусловлен в разных случаях разными причинами. Да и вообще дело это серьезное, по крайней мере, для меня. Чтобы не бубнить всего этого в интервью — которое, предполагалось, должно быть веселым и даже лихим, учитывая характер издания, — я решил сыронизировать и даже подтрунить. Сказал, что Холмс сегодня был бы даже не вегетарианцем, а веганом, объяснив это как «моральной опрятностью» сыщика (качество, подмеченное еще доктором Ватсоном), так и беспощадной его логикой, благодаря которой Холмс обычно доходил в своих выводах до конца. Пошутил, конечно, только отчасти — я действительно так думаю, а ироническая завеса потребовалась, чтобы не разжевывать столь очевидные мне вещи на страницах модного издания. Пусть читатели сами слегка призадумаются.
Как только интервью опубликовали онлайн (а слова про Холмса, который сегодня был бы веганом, оказались вынесены в заголовок), я заглянул в комментарии на сайте этого издания. Зачем — не знаю. Обычно я такого не делаю, ибо знаком — как и все мы — с яростным накалом неопрятной достоевщины, который поддерживается на любом форуме, от политического до кулинарного, особенно если он на русском языке. Но тут, будто что-то предчувствуя, я решил все-таки посмотреть. И был вознагражден. В первых же репликах на меня посыпались самые разнообразные обвинения — от нарциссизма и снобизма до идиотизма и невежества (возможность комментариев на сайте «Афиши» с тех пор была отменена, сейчас комментарии к интервью о Шерлоке не видны. — Ред.). И все потому, что я рискнул сказать такое про Холмса. Рискнул вообще заговорить о веганстве нормальным языком, заранее не извиняясь, не делая книксенов, не подсмеиваясь над собой, иными словами — не совершая всего того, что в обычной постсоветской жизни вынуждены проделывать представители любого из так называемых меньшинств.
Веганство — хороший способ проявить учтивость по отношению к окружающему миру, животным и людям. А учтивость я ценю чуть ли не превыше всего.
Да, я веган — и свои предположения о воображаемой диете сегодняшнего Холмса строил на собственном опыте, который, естественно, оставил при себе, познакомив читателя лишь с выводами. Да, я действительно считаю, что веганство есть хороший способ проявить учтивость по отношению к окружающему миру, животным и людям. А учтивость я ценю чуть ли не превыше всего. Да, я действительно считаю, что веганство есть очевидный логический вывод из определенного хода размышлений об устройстве нашего мира — если только действительно честно додумать мысль до конца. Но я никогда не объявляю об этом окружающим, не проповедую, а просто держу при себе. Это мое частное дело — чем я питаюсь; более того, это уж точно мое дело — что я думаю по поводу устройства окружающего мира. Если меня просят, делюсь некоторыми из соображений, но не больше. Упаси боже пасти народы. И все вот это я — в своей гипотезе — приписал Холмсу. И все вот это вызвало дикое раздражение публики.
Раздражение, как сыпь, перекинулось с сайта издания, где было опубликовано интервью, на социальные сети. Я вывесил ссылку на беседу о Холмсе у себя в Фейсбуке — и получил десятки взвинченных комментариев, где веганов (и меня самого) обвиняли в том же самом снобизме, «элитизме», неуважении к бедным, у которых якобы нет денег на веганскую диету, в том, что я рекламирую веганство, по сути — в том, что я именно принялся пасти народы снобской, красного дерева тростью с набалдашником из слоновой кости. Я пытался было утихомирить страсти. Отвечал шутливо, вежливо, отстраненно, но потом и меня стало одолевать раздражение. Как объяснить этим идиотам, что они идиоты? Ответа на подобный вопрос не существует, да и сама его постановка ложная — никому ничего объяснять не надо. Решив так, я успокоился и перестал следить за развитием событий в комментариях в ФБ; меж тем в отсутствие хозяина там разыгралась нешуточная война, воздух сотрясали взаимные оскорбления, люди, которые были дружны не первый год, ругались, разрывали отношения и так далее. Все это напоминало какой-нибудь ранний рассказ Сорокина, где банальное партсобрание незаметно, следуя параноидальной логике, переходит в каннибалистскую оргию.
Впрочем, через день я все-таки решил продолжить тему — то ли из дурацкого желания подразнить, то ли действительно намереваясь выяснить причину столь бурной реакции на скромное рассуждение о гастрономических привычках некоторых людей. И я написал в Фейсбуке — где же еще? — пост, в котором поставил следующий вопрос, даже не вопрос, нет, просто выразил недоумение:
Насколько я себе представляю эту левую активистку, она восточнее Нижнего Новгорода не бывала и о ситуации в «сибирских деревнях» судит по детским воспоминаниям о советских киносериалах.
«Опытным путем и совершенно случайно наткнулся на главный источник раздражения постсоветского человечка. Это не Путин, не Майдан, не мигранты и даже не геи с евреями. Нет. Это вегетарианство и особенно веганство. Стоит случайно упомянуть о них, даже говоря о совсем других вещах, постсоветский человек тут же начинает нервно ерзать, будто его самого уличили в краже свечек в церкви. Он гордо сообщает окружающим: “А я вот без мяса не могу!” (хотя его никто об этом не спрашивал), он обвиняет немясоедов в снобизме, в измене духовности, задушевности, рабочему классу, Родине и проч. Он ревниво намекает на социальный статус и географическое нахождение супостата и рассуждает на тему “вы там все зажрались, а у нас Тамбовская область от нищеты на пельменях и гнилом мясе сидит!” В этом вопросе нет консерваторов, либералов, фашистов и коммунистов, здесь полное неотрефлексированное единство если не взглядов, то уж реакций точно. Думаю, что вот это единство и есть загадочный “русский мир”».
Реплика моя была несколько политизирована, ибо я обращался именно к русской аудитории. Но я нисколько не преувеличивал насчет единения вокруг нелюбви к веганам/вегетарианцам — самые воспаленные комментарии к моему интервью принадлежали людям, которых я знал давно, друзьям и приятелям с совершенно для меня безупречным послужным списком в смысле этических взглядов, поступков и политических пристрастий. И вот они на моих глазах, объединившись с мужскими шовинистами, путинистами, националистами и прочими нехорошими людьми, негодовали по поводу мимолетного упоминания об одной — несвойственной им — стороне образа жизни. Особенно старалась некая левая активистка (впрочем, лично мне незнакомая), выступающая обычно за все хорошее и против всего плохого: она взывала к моей совести, социальному состраданию, утверждая, что в сибирских деревнях (sic!) бедные жители без мяса и молока не протянут. И что веганство придумали «лондонские снобы», которым просто нечем себя занять, — у снобов обычно несколько машин, большая недвижимость, а банковские счета вспухли от доходов. И вот, чтобы успокоить нечистую совесть, снобы из Лондона отказываются от мяса и ведут «этический» образ жизни. Насколько я себе представляю эту левую активистку, она восточнее Нижнего Новгорода никогда не бывала и о ситуации в «сибирских деревнях» судит по смутным детским воспоминаниям о советских киносериалах из истории Гражданской войны.
Моя новая реплика вызвала еще больший всплеск эмоций, за которым я, честно говоря, устал следить. Вообще вся эта история мне крайне надоела, и я уже не рад, что ее затеял. В конце концов, Шерлок Холмс, слава богу, до времен Джастина Бибера, Владимира Путина и нового припадка ксенофобской эпилепсии в Европе не дожил, так что нечего и спекулировать — по-прежнему бы он имел обыкновение баловать себя холодной куропаткой или перешел бы на спаржу и киноа? Что же касается моих собственных взглядов на производство и потребление животноводческой продукции, то они для меня кристально ясны, для других — совершенно радикальны, но я — еще и еще раз повторяю — не намерен пасти народы. Точка.
У русского недоброжелательства к вегетарианству есть вполне определенная причина — страшная история голодов конца XIX — первой половины XX века.
Однако вышеизложенный сюжет обладает и иным измерением, если отвлечься от того, что Пятигорский называл «сферой психизма», — то есть отвлечься от раздражения по поводу несовершенства окружающего мира. Действительно, что происходит? Почему отношение к вегетарианству/веганизму объединяет столь разных людей? Нет ли здесь богатой поживы для историка, антрополога, социолога? Мне кажется, этот сюжет имеет несколько уровней, но среди них нет главного. Наоборот, при определенных обстоятельствах сюжет может обернуться то одной стороной, то другой.
Уровень первый — самый простой; он находится на поверхности и обычно используется для объяснения странного, почти единодушного раздражения, вызываемого веганами/вегетарианцами. Обычно его определяют как «страх чужого», «подозрение к чужаку», «раздражение и неуверенность по поводу существования иного». Здесь все ясно. Тот, кто ест мясо, подозрителен к тому, кто его принципиально не ест, — оттого, что второй делает нечто, в принципе возможное для первого (и даже иногда втайне желательное), но первый этого-таки не делает. То есть он не отказывается от мяса. Точно так же обыватель не любит героя, обычный человек раздражен существованием аскетов и проч. Даже благотворительность — а уж, казалось бы, что проще благотворительности в нашем мире! — встречается с подозрительностью, завистью, тайным устойчивым недоброжелательством. «Он — другой!» — и этим, на первый взгляд, объясняются многие, почти все, подобные истории. Но не все так просто — универсальный сюжет распадается на несколько локальных.
Здесь меня интересует российский. В России — несмотря на долгую традицию отказа от мяса, несмотря на учение Льва Толстого (не говоря уже о суровых православных постах) — к вегетарианству относятся довольно скверно. И у этого недоброжелательства, даже страха, есть вполне определенная причина — страшная история голодов конца XIX — первой половины XX века. И, конечно, бедная, тяжелая жизнь подавляющей части населения страны до относительно недавнего времени. Все это поднимает символическую ценность еды вообще — и особенно еды жирной, изобильной, мясной, то есть той, что была десятилетия и столетия многим недоступна. Память об этом — рискну использовать очень банальное и не совсем понятное самому мне выражение — существует на генетическом уровне. Оттого тот, кто отказывается от простых, «вкусных», питательных продуктов, которыми были обделены наши родители, бабушки, дедушки и так далее, делает — при всех высоких помыслах его — что-то странное, враждебное, неуважительное. Такое отношение обычно не рефлексируется, но оно составляет эмоциональный фон, на котором разыгрываются драмы уже других уровней.
«Наше» главнее «чужого» — ибо наши страдания пóдлиннее, наша жизнь тяжелее. В этом чемпионате по невыносимой тяжести жизни мы — чемпионы. Оттого только мы раздаем знаки подлинности.
Прежде всего, это уровень социальной зависти. Веганство/вегетарианство воспринимается как причуда богатых избалованных людей, которым нечем больше заняться. Отвратительная советская и постсоветская формула «Эх, нам бы ваши проблемы!» определяет, в частности, и этот сюжет. У «нас» — тяжкая, безрадостная жизнь, борьба за выживание, труд, пот, страдание и так далее. У «них» — надуманные абстрактные проблемы, лишенные всякой связи с «жизнью» и соответственно с «нами». «Наше» главнее «чужого» — ибо наши страдания пóдлиннее, наша жизнь тяжелее. Соответственно в этом чемпионате по невыносимой тяжести жизни мы — чемпионы. Оттого только мы раздаем знаки подлинности. Веганам/вегетарианцам таких знаков не получить — разве что они как-то обоснуют (в наших терминах) необходимость, включенность их причуд в наше страдание. Скажем, если веган заявит, что избегает животных продуктов по медицинским соображениям, никто особенно ругаться не будет. Он страдает, соответственно он настоящий, соответственно ему можно. Конечно, это покровительственная позиция, ставящая чудака в положение «больного», «неполноценного», которого надо пожалеть. Особый случай, если человек отказывается от животных продуктов питания по религиозным соображениям. Тогда вопросов к нему вообще нет — ведь он таким образом включает себя в большое коллективное тело верующих. А вот веган-индивидуалист подозрителен, ибо он действует по своей воле, в его личные мотивы не верят, считая их каким-то вздором. Но если в дело замешана религия — то есть нечто непонятное, общее, но в целом хорошее — тогда да. Никаких вопросов.
Собственно, здесь, в этой комбинации разных причин и разных уровней, и лежит ответ на мой вопрос. Раздражение по отношению к вегану/вегетарианцу возникает почти из всех обстоятельств жизни постсоветского человека — от смутной персональной памяти через осознание себя в качестве результата долгой, полной страданий и голода истории к нынешней отчаянной социальной ситуации, зависти в отношении и тех, кто богаче тебя и находится рядом с тобой, и тех, кто вообще живет где-то там, на «Западе». Плюс общее недовольство актами персонального выбора, который, по идее, открыт и для «обычного невегетарианца», но так как он его не сделал, этот акт становится для невегетарианца этически невыносимым. Так мы от первого уровня добрались до последнего, глубокого, который внезапно оказался основанием для того, что происходит на поверхности, на первом, якобы «универсальном», уровне.
Это, конечно, только беглые наброски к серьезному разговору, ничего больше. Но важно зафиксировать одну вещь — мы действительно говорим о сентименте, который объединяет постсоветское общество вне зависимости от политических взглядов, эстетических пристрастий и даже социального статуса. А эта мысль выводит нас уже за пределы разговора о еде в иные области — туда, где можно попытаться понять, как устроен тот мир, который когда-то звался СССР. И наконец-то осознать, сколь страшную катастрофу устроили сами для себя населявшие эту территорию люди.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Искусство
Искусство Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр Современная музыка
Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине
7 февраля 20228997 Молодая Россия
Молодая Россия Общество
ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной
7 февраля 20229438 Литература
Литература Кино
КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы
4 февраля 20228963 Современная музыка
Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе
4 февраля 20229093 Искусство
ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х
3 февраля 20229002