 Искусство
ИскусствоКороткий двадцатый, долгая Вторая мировая
Наталия Арлаускайте о том, как современное литовское искусство воспринимает историю 1940-х
11 февраля 2021169 © Анна Козлова
© Анна КозловаВ московском Центре моды и дизайна открывается большая персональная выставка Линор Горалик — поэта, писателя, художника, журналиста, одной из самых ярких фигур российского интеллектуального пространства. Фоторепортаж с выставки можно будет увидеть на COLTA.RU завтра.
Александр Гаврилов: Ваш цикл «Ряд незначительных событий и явлений», связанный — как бы это сказать — с обитателями маргиналий на иконах, населен буквально героями второго плана. Я, когда его разглядывал, вдруг вспомнил, что у вас был схожий литературный проект в стародавние времена, в «Русском журнале». Вы там подробно описывали героев второго плана русской литературы, на которых обычно не обращают внимания, потому что они заслонены или вытеснены слишком ярко выписанными героями первого плана. Что дает вам обращение к этим персонажам второго плана, чего не дали бы герои более заметные?
Линор Горалик: Для меня работа со вторым планом, с героями второго плана принципиально важна и в текстах, и в визуальных экспериментах. И, кстати, если мы говорим о героях второго плана, надо сказать, что среди инсталляций на этой же выставке есть показанная только однажды до этого работа под названием «Пять минут спустя»: это старые венские стулья, на которых стоят маленькие некрашеные деревянные зверушки для детского творчества. Стульев пять, и каждая сценка — попытка поймать реальность в один-единственный момент: через пять минут после завершения расхожих библейских сюжетов. Там есть, например, сценка, которая называется «Девочка встала». Потому что вот Он пришел, вот Он сказал: «Девица, встань!» — и вот Он ушел, а девочке дальше жить в этой деревне, среди этих людей, и вот они стоят и смотрят на нее. Работа с такой оптикой позволяет мне говорить о единственной интересующей меня вещи — о выживании людей в повседневности. Катаклизмы приходят и уходят, повседневность вечна: она пребудет до катаклизма, во время катаклизма, после катаклизма. Герои первого плана приподняты над повседневностью выдающимися событиями катаклизма — даже в дамском романе, даже в самой похабной разлюли-малине про попаданцев на этом строится сюжет. Герои второго плана вынуждены существовать фактически в тех же обстоятельствах — но, в отличие от героев первого плана, они не наделены вниманием, инструментарием, в конце концов, тем уважением, которое придает драма или комедия ее главным персонажам. Они поставлены в те же обстоятельства, но вынуждены действовать в гораздо более сложных условиях; в некотором плане похоже на положение ребенка в обществе (а ребенок для общества по определению — лицо второго плана; на исторических часах трех минут не прошло с того момента, как мы начали видеть ребенка личностью в принципе, но и сейчас почти всегда ребенок существует ровно в тех же обстоятельствах, что и взрослый, — минус инструментарий взрослого, опыт взрослого и свобода взрослого. В этом смысле даже мой интерес к детской литературе — это интерес к героям второго плана). И поэтому обнажать повседневность, выживание, радость и трагедию героев второго плана кажется мне куда интереснее, чем заранее заданные привычными тропами обстоятельства жизни главных героев. Есть и, наверное, сугубо невротическая причина: я — герой второго плана, небольшое и не очень важное существо; я — человек, живущий абсолютно в мире вот этой шаткой, неуверенной, вязкой повседневности, — и, конечно, другие такие же мне много роднее небожителей.
Гаврилов: Странным образом, у меня был вопрос, почему в вашем творчестве так много автопортретов.
Горалик (смеется): Совсем мало! Их всего восемь. На всё.
Гаврилов: Да — но даже животные из вашей работы «Пожар в раю» (еще не завершенной. — Л.Г.) — саламандры, львы, козлы, совы с человеческими лицами — имеют с вами явное портретное сходство.
Горалик: Совы не то, чем они кажутся.
Гаврилов: Это да. Но при этом во всех этих ваших героях кроме того, что они «недо-», что они бесправные, что они опоздали, что они не вовремя, есть еще какая-то непременно надломленность и надломанность. Я вспоминаю, что одна из ваших выставок называлась «Пожалеть не глядя» — ее главным героем был как раз вот этот Неглядь.
Горалик: Да. То существо, на которое неприятно смотреть: больно, страшно. Можно хорошо себя вести по отношению к нему — жалеть, помогать, — но при этом невыносимо хочется отводить глаза.
Гаврилов: Почему этот Неглядь так важен для вас? Это тоже попытка договориться с самим собой про себя — или там есть еще что-то?
Горалик: Просто все эти существа — смертные, а быть смертным, да еще и осознающим свою смертность — тяжелейшая экзистенциальная ноша. Какую еще травму можно выдумать (да и нужно ли?), чем просто бремя осознаваемой смертности — и физическое, и духовное? Я говорю здесь отнюдь не про страх перед тем, что «человек смертен, и смертен внезапно», но про два бремени. Одно — бремя тела вообще. У меня в работе некоторая картинка (не знаю, успею ли я закончить ее к выставке «Теория повседневности»); она называется «Собор всех частей тела, в душах человеческих просиявших». Общая композиция этой картинки повторяет традиционные иконы Собора всех святых в одной из их распространенных вариаций. Существа на этой картинке сделаны из сложно переплетенных внутренностей, над головами у них нимбы, они предстоят небесному свету, льющемуся из операционных ламп. Собственно, даже в выставке «Пожалеть не глядя», очень старой, все «негляди» были телесно мучимые существа: им всем нужна была помощь — не потому, что они в каких-то страшных жизненных обстоятельствах, а просто потому, что их тело разными способами их подводит. Да и мука душевная с мукой телесной, в сущности, неразделимы.
Гаврилов: Есть такой знаменитый текст-наставление Дали молодому художнику, где он среди прочего довольно ехидно пишет: «Не страшись совершенства, его ты все равно не добьешься». На большой ретроспективе Пригова, которая называлась «От Ренессанса до концептуализма», я вдруг обратил внимание, что Пригов в очень разных проектах (скажем, в своих видеоинсталляциях) обращался к одному и тому же: он делал вещи, по тем временам завораживающие, совершенные, выдержанные в жанре мосховского сюрреализма или метафизической живописи и скульптуры, — после чего в ходе фиксируемой на видео акции их уничтожал. В этом бесконечно проявлялось (ну, теперь, наверное, это можно так объяснить) его разочарование в преображающей силе совершенства. Еще для Дали это было вполне возможным путем — если ты нарисуешь достаточно красивую картинку, то ты, некоторым образом, коснешься бессмертия; для Пригова — уже нет. Правильно ли я понимаю, что в техническом смысле вы скорее с Приговым, чем с Дали? Мне кажется, что в ваших работах вы очень старательно и настырно сочетаете крайне детальную проработанность с некоторой незавершенностью, несовершенностью.
 © Анна Козлова
© Анна КозловаГоралик: О да — это, некоторым образом, сверхзадача. Например, я все-таки какой-никакой математик по образованию, пользоваться циркулем и линейкой умею. Огромное количество орнаментов, которые, например, использованы в серии «Апографии», подражающей иконам, можно было выстроить и отрисовать геометрически правильно. Но решением моим было сделать работу, которая создавала бы иллюзию очень тщательно прописанной, но при близком рассмотрении кривенькой. Это было важно не только потому, что воображаемый автор Яков Петровский, человек, который делал эти апографии, был так устроен (он тоже был математик по образованию, он тоже мог это сделать), но и потому, что мне было очень важно оказаться ближе к тому, что принято называть (я ненавижу это выражение, оно некорректное, неправильное) Art Brut, чем к правильной иконной прописи. Особенно когда речь идет о моих иконах. Мы помним, что икона часто понимается как зерцало мира, слепок мироздания. Я глубоко верю, что мироздание по некоторым причинам устроено ровно так: оно издалека может выглядеть довольно цельно, а вблизи, в каждой конкретной детали, очень глубоко несовершенно — и я вижу в этом чистый Божественный промысел: в противном случае оно было бы недоступно для нас, непознаваемо. Его шероховатость — это милость Господня. Представьте себе, что вы входите в идеально убранное помещение: в нем страшно находиться, оно словно бы не предназначено для жизни; теперь представьте себе далеко не идеально убранный, но очень обжитой дом, где может валяться на полу детская игрушка, где у стены облепился угол, — там живут люди, там в принципе можно выжить. Несовершенство мира — это Божья милость, Он таким образом делает этот мир выносимым для несовершенных нас; делает соразмерным, соприродным нам и спасает нас от крайней ненависти к себе, от чувства непростительного несовершенства. Мне кажется, что я — человек с плохим глазомером — работаю без линейки и циркуля, например, просто потому, что тогда этот эффект будет выдержан.
Гаврилов: В истории «Бумажной церкви города Тухачевска» для меня сливаются одновременно и история советской церкви послевоенных лет, где христиане сознательно отказывались от возможности публичного исповедания веры, и движение бумажной архитектуры, где участники сознательно отказывались от реализации своих проектов. Почему этот опыт неговорения, то есть говорения при помощи неговорения, для вас сегодня так важен?
Горалик: Ну, прежде всего, все, что помогает сделать частную жизнь еще более частной, остро меня интересует. Нет ничего более частного, чем частная церковь — хочется сказать «домашняя церковь», но «домашняя церковь» имеет немножко другое значение; скажем так — церковь в пределах одной квартиры. Я работаю сейчас над книгой про тухачевскую Бумажную церковь; там эта частность, обособленность — центральная, естественно, тема.
Гаврилов: Что в этой книжке будет?
Горалик: Это будет или книга, или развернутая статья (я посмотрю, что будет с объемом), написанная в жанре non-fiction. У меня в голове есть воображаемый город Тухачевск: он находится на месте Санкт-Петербурга в отсутствие Санкт-Петербурга. Я никаким образом не специалист по истории и по геоистории, но я позволяю себе вообразить, что Петр не создал Петербург и развитие этого региона шло как шло — небольшие поселения, потом небольшие города, а потом, в 1948 году, по директиве лично товарища Сталина создается город с нуля, строится на костях среди болот и называется Тухачевск. Это город-«ящик», где градообразующее предприятие — секретный завод, Тухачевский опытный водорослеперерабатывающий комбинат (ТОВК). Это типичный советский ящик: 800 000 человек населения и очень высокий образовательный ценз, как это в такого рода ящиках часто бывало. Среди воображаемых историков этого воображаемого города есть один, который говорит, что культура в Тухачевске существовала исключительно за счет своей способности размножаться делением. Тухачевская Бумажная церковь возникает в 1980 году — в конце этого года происходит первая большая подпольная «сходка», целых 17 человек. Слова «Бумажная церковь» рождаются позже: о хранении икон речь, естественно, не шла, но кто-то из прихожан сказал, что рисует некоторые картиночки: «Я бы на следующий раз принес показать». Потом возникли слова «Бумажная церковь» — из-за того, что рисунки прихожан заменяли в ней, по сути, традиционные иконы. Кто-то вел встречи и дискуссии, по очереди читали «лекции» — а на деле проповеди. Кто-то стучал. Всё как всегда.
Чем для меня бесценна эта группа? Прежде всего, конечно, для меня тухачевская Бумажная церковь — квинтэссенция поздней советской интеллигенции, той самой, которая «какая-то очень советская» и «какая-то очень антисоветская» одновременно, которая находилась в постоянном и требовательном духовном поиске, несмотря на отсутствие воздуха вокруг. Сначала квадратовцев (они так называли себя по имени своего условного священника, после распада СССР действительно принявшего сан, — о. Сергия (Квадратова)) не замечали, потом, как положено, их призаметили, потом кто-то (мы не знаем до сих пор — кто) начал постукивать, потом началось всякое, и тут грянула поразительная история. В Тухачевске появился серийный убийца. В Советском Союзе было достаточно серийных убийц, и некоторые из их дел известны — но Советский Союз упорно делал вид, что серийных убийц в нем нет. В Тухачевске же возник некий человек, которого быстро назвали «Тухачевским принцем»: он убивал девушек в возрасте от 15 до 19 лет и укладывал их в публичных местах «спать» в постеленные на траве постели. И все время получалось, что эта история плотно связана с Бумажной церковью: то свидетелем, обнаружившим тело, оказывался брат одного из прихожан, то простыни были куплены в магазине, где работала мать другой прихожанки, то среди девушек оказалась одноклассница сына Квадратова. Наконец, был арестован один из ключевых участников БЦ, человек по имени Яков Петровский (важно упомянуть, что он — член воображаемой семьи Петровских, которая живет у меня в голове: например, его старший брат Сергей Петровский — автор моей книги «Устное народное творчество обитателей сектора М-1» и отец девочки Агаты из моих детских книг). Яков Петровский, автор очень многих рисунков и икон, которые я выставляю, оказался настолько близок к делу «Тухачевского принца», что был арестован по подозрению в убийствах и успел даже некоторое время посидеть под следствием; но, пока он находился в изоляторе, произошло последнее убийство — погибла девушка по имени Мара Яковлева, дочь одного из прихожан церкви. Петровского освободили, и он каким-то немыслимым способом сумел быстро уехать на Запад — чуть ли не как политпреследуемый. Едва оказавшись за границей, он сделал первую публикацию о тухачевской Бумажной церкви в одном из эмигрантских американских журналов — и с этого момента история церкви стала известна и начала фиксироваться. С самой же БЦ дела обстояли плохо: группировка не пережила смерти Мары и всех окружающих событий и постепенно распалась. Вскоре грянула перестройка; судьбы участников Бумажной церкви оказались очень разными. Сергей Квадратов, как уже говорилось, принял сан; Яков Петровский по сей день живет в США, работает как программист и как художник, является автором серии «Ряд незначительных событий и явлений» и автором серии «Апографии», которые я выставляю. Я же потихоньку работаю над историей Бумажной церкви города Тухачевска. Жадность моя до этого сюжета, мое страстное желание им заниматься связаны с возможностью окунаться с головой в частную жизнь людей, которые посреди ничего, на пустом месте пытаются выстроить свои отношения с Господом и верой. «Посреди ничего» — это не только «вне церкви»: важно помнить, что речь идет не о Москве или Питере, а о куда более душном и информационно изолированном пространстве. Вот вам полукомический сюжет: в какой-то момент к БЦ присоединилась группа из трех человек, которые использовали, простите, книгу Зенона Косидовского как опору для своей религиозной мысли, потому что не могли получить другие, нормальные, источники библейских сюжетов. Поэтому меня, конечно, интересует возможность окунуться с головой в этот мир, в эти отношения с верой. Ради этого все затевается.
 © Анна Козлова
© Анна КозловаГаврилов: Может, на первый взгляд, показаться, что это квазидокументальное повествование, нон-фикшен внутри вымышленного мира, что пересекается с некоторыми довольно памятными проектами 80-х — 90-х — и в литературе, и в искусстве: мне на память приходят пластилиновые миры одесского дуэта Мартынчиков, и битовский «Преподаватель симметрии», и появившиеся в тот же период переводы на русский язык борхесовского «Пьера Менара». И при этом очень важная интонация здесь другая, но я бы сам не взялся ее сформулировать. В чем для вас самой отличие этой работы от воспроизведения абсолютно приватной жизни Пьера Менара, переписывающего «Дон Кихота»?
Горалик: С Пьером Менаром как персонажем у меня есть некоторая общность, некоторое чувство близости. Но важно, наверное, то, что меня не интересует миротворчество, не интересует устройство вселенной: напротив, мне важно, что читатель знает эту вселенную — вселенную позднесоветской интеллигенции — до тошноты. Ему не нужно объяснять устройство мира — и можно полностью отдаться устройству людей в нем (в меру моих авторских сил). В некотором смысле, если бы не желание чуть большей свободы, история с БЦ могла бы происходить в Новосибирске, Днепропетровске, Минске, Туле, Арзамасе-16. Даже сам жанр псевдодокументальности мне важен ровно потому, что позволяет как можно пристальнее разбираться с отношениями человека, общества и веры, а не с тем, как работает мироустройство. Мне крайне важна полная обыкновенность бытового мира.
Гаврилов: Вы здесь предполагаете, что зритель (или читатель) полностью интегрировал образ позднесоветской бытовой жизни, в то время как на самом деле сегодня в мир пришел зритель, для которого слово «пионер», как недавно за своим старшим сыном записала критик Галина Юзефович, означает «таких ребят вроде скаутов с банданами на шее, не помню только, какого цвета».
Горалик: Давайте тогда скажем так: мне важно, что мир советской повседневности если и не «знаком», то описан и проговорен: для того, чтобы узнать его бытовое устройство, совершенно не нужна я — информации хватает. Я же могу работать с частными жизнями в нем.
Гаврилов: Ваш проект -mnesia: wearable things, с одной стороны, с очевидностью наследует концептуалистским инсталляциям, а с другой — это культурное усилие по бесконечному переузнаванию узнавания выносит его на территорию, близкую к альтернативной моде Андрея Бартенева. Вы много занимаетесь языком костюма — и на этом языке, мне кажется, высказываетесь с яркой, почти плакатной ясностью, в то время как в стихах, прозе, других визуальных сериях очень большая работа по пониманию сказанного ложится на читателя и зрителя. Почему для вас тут это высказывание возможно?
Горалик: Я преподаю в Шанинке, в магистратуре по теории моды, курс «Повседневный костюм и трансгрессия». Слово «повседневный» здесь, как всегда, для меня важно: я интересуюсь тем, как человек справляется со своей одеждой с утра до вечера. Собственно, проект -mnesia, состоящий из wearable art (большей частью — из моих работ по серебру), — это разговор про норму и ее нарушение: про то, как норма складывается, и про то, почему, как, зачем она нарушается. В этих объектах разговор со зрителем ведется, может быть, более прямым языком, чем в стихах или других моих штуках, потому что язык костюма и синтаксис костюма менее ясны для зрителя: например, с текстом или картиной зритель остается наедине, в то время как предмет костюма всегда затерян среди других предметов костюма. Мне интересно смешивать на этой территории непрямое высказывание и очень прямое высказывание (например, у вещей из проекта -mnesia есть имена, названия, как у книг: «Кольцо о гордыне», «Брошь о наивной искренности»).
Гаврилов: Эта выставка объединяет ваши работы за 10 лет. Проявляются ли здесь какие-то сюжеты, которых не было, когда вы начинали планировать эти вещи, или они настолько точно сделаны у вас внутри головы, что остается только перенести их вовне?
Горалик: У меня поразительным образом никогда не получается спонтанная работа. Я, например, запрещаю себе это и в стихах, и в прозе. Я запрещаю себе действовать по принципу «так уж песенка поется», идти за песенкой, а не выстраивать ее. Я знаю, что есть те, кто идет, например, в стихе за рифмой — и получается прекрасно, но я не из них: мне надо жестко думать над структурой и словами. Буквально каждый проект на выставке (почти все работы на ней объединены в цельные проекты: -mnesia, «Бумажная церковь Тухачевска», «Апографии» и так далее) задумывается, планируется, записывается и выполняется.
Гаврилов: А какие-то вещи, сделанные сегодня, перекликаются с вещами и темами, скажем, десятилетней давности? Понятно, что есть сквозные идеи — идея проницаемого пространства, идея отстаивания смертности (и приватности на фоне смертности), а что между ними?
Горалик: Да, конечно. У меня все время есть чувство, что во всем, что я делаю, включая статьи о теории костюма, я говорю об одном и том же: о ежедневном выживании смертного существа при бессмертном Боге. Меняется только язык. Это как если бы в голове у меня был шарящий фонарь: он выхватывает из тьмы зоопарк — и получается книжка «Все, способные дышать дыхание» (она сейчас в работе); там очень много связано с понятием «животности», с тем, что такое животное. Он выхватывает из тьмы русскую икону и историю городов-«ящиков» в СССР — и получается история с Бумажной церковью; он выхватывает из темноты Венецию — и получается дописываемая мной сейчас книга про детей в таком замкнутом, странном мире между землей и водой. Если я правильно понимаю, кстати, это похоже на то, как работает психоз: психоз выхватывает элементы реальности и встраивает в болезненную картину мира. Человек находится в психотическом расстройстве, и тут кто-нибудь включает телевизор: «О! Телевизор разговаривает со мной!» А в другой ситуации человек находится в психотическом расстройстве, а тут дождь пошел: «О! Молнии — это код!» Вот мне кажется, что я ничуть не сложнее в этом смысле устроена: на что я ни смотрю, я вижу одну и ту же навязчиво интересующую меня вещь — выживание смертного существа при бессмертном Боге.
Гаврилов: Что является праксисом этого искусства? Вот есть скульптор Церетели. Торгует бронзой. Есть художник Сафронов, торгует понятно чем. У этих произведений искусства есть некая прагматическая задача. Что является праксисом вашего искусства? Вот существует объект «Сошествие Христа в 6-ю областную инфекционную больницу г. Тухачевска».
Горалик: Да. Он лежит на принадлежащем Институту книги складе на улице Скотопрогонная: если бы такой улицы не было, ее надо было бы придумать. Праксис же его таков, каков в моем представлении праксис моих стихов, например. Есть какое-то мое «мы». Это очень немного человек: иногда мне кажется, что пять, иногда — что 14—15; представить себе 20 я уже не могу. Они эти стихи видят и, я надеюсь, думают: «Хорошие стихи». Это и есть праксис моих стихов. По моему ощущению, все, что я делаю, я делаю для этих 14—15 «моих» людей; если же происходящим интересуется кто-то еще, это кажется мне некоторой аберрацией, некоторой случайностью. Я счастлива и благодарна тем, кто публикует мои книги, кто ставит мои выставки, но как бы до сих пор не могу в это поверить и это воспринять. Вот сейчас я ставлю большую выставку и отдаю себе отчет, что она, наверное, делается не для 15 человек, но в голове моей на нее по-прежнему смотрят те же 15 пар глаз. Большинство вещей, которые я делаю, я просто кладу у себя в фейсбуке и на сайте. Но главный праксис моей работы даже не в этом. Главное — я делаю эти вещи, чтобы перестать о них думать, чтобы мое сознание от них избавилось. Если я сделаю картинку «Сошествие Христа в 6-ю областную инфекционную больницу г. Тухачевска», она будет лежать на улице Скотопрогонной, а не у меня в голове. Это огромное облегчение.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
ИскусствоНаталия Арлаускайте о том, как современное литовское искусство воспринимает историю 1940-х
11 февраля 2021169 Искусство
ИскусствоИван Биченко о путешествиях музейных экспозиций между задачами флэш-графики и образом торгового центра
10 февраля 2021261 Colta Specials
Colta Specials Современная музыка
Современная музыкаМосковская группа, в которой заняты три звукорежиссера, играет арт-рок на английском и не стремится к коммерческому успеху
10 февраля 2021289 Литература
ЛитератураНовый литературный альманах-огонь: Захаркив, Курбаков, Фёгелин, Клюшников, Шестакова, Фещенко, Карева, Быченкова и Былина о равноправии науки и искусства
9 февраля 2021182 Кино
КиноЕще один новый — теперь вампирский — фильм из программы Роттердама. И интервью с его автором
9 февраля 2021176 Общество
ОбществоАлександр Чанцев поговорил с известным петербургским философом о любви к родине, о депрессии как общественном феномене и о том, почему нам нужно равняться на вомбатов
9 февраля 2021356 Литература
Литература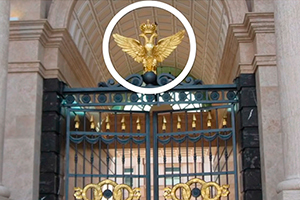 Общество
ОбществоАндрей Карташов о том, как Навальный пользуется средствами кино, чтобы создать свой собственный нарратив о России и о самом себе
8 февраля 2021283 Кино
Кино Театр
Театр
 Академическая музыка
Академическая музыка