 Искусство
ИскусствоСкупой русский натюрморт
 © РИА Новости
© РИА НовостиCOLTA.RU продолжает рубрику «Ликбез», в которой эксперты делятся с нами своими взглядами на основополагающие понятия и явления культуры. Сегодня — особый случай. Благодаря любезности Катерины Гордеевой и Александра Уржанова, кураторов проекта «Открытая лекция», мы предлагаем нашим читателям лекцию «Язык в тупике», прочитанную классиком русского перевода Виктором Голышевым в московском пресс-центре РИА Новости. Предметом лекции стал «Котлован» Андрея Платонова и его язык — по формулировке Иосифа Бродского, «язык смыслового тупика, <...> тот язык, на котором мы все говорим».
В. Голышев: Ну, для начала, значит, это называется по-английски «отказ от ответственности». Я не специалист по Платонову, не литературовед, вообще никто. Я — переводчик. Но на протяжении уже там лет пятидесяти мне приходится с ним иметь дело — иногда для удовольствия, иногда там по делу как-то. Мы начали с 1962 года, когда я узнал, что такой человек был. А потом как-то мне пришлось читать... Прислал сперва приятель из Америки двуязычный «Котлован», который в 1973 году вышел там и переведен был Томасом Уитни, — и там было предисловие Бродского, где было написано, что счастлива страна, где нельзя перевести эту книжку. Ну, мне показалось, что ее можно перевести было. И даже я сделал такой опыт: я брал английский текст и своим родственникам читал с листа как бы русский перевод. В 2/3 случаев это просто совпадало слово в слово — ну, когда ты уже знаешь текст, да? Также говорят, что на Платонова пародию нельзя написать. Очень просто на него, на самом деле, пародию написать.
А потом через два года «Котлован» перевела Мира Гинзбург, замечательная переводчица, которая, видимо, ребенком уехала отсюда и кое-что про это помнила еще. А потом уже занялись англичане, Роберт и Элизабет Чендлер. И они не один перевод сделали. Последний вышел в 2009 году при помощи Ольги Меерсон, которая, видимо, отсюда уехала и кое-что могла там рассказать им — то, что очень трудно узнать, какие-то мелочи.
Насчет того, что это перевести нельзя. Когда-то Григорий Дашевский сказал, что вообще литературу здешнюю — ну, когда она была хорошая, между войнами там, до 30-х годов, — перевести нельзя, потому что то, что написано изнутри катастрофы, люди за границей понять не могут. Но на самом деле проза эта довольно удобная для перевода. Там вот эти абстрактные соединения... Ну, потом я, может, про них заговорю отдельно. Они как раз на английский язык очень хорошо переводятся — кроме советизмов, которые уже для иностранцев совершенно непонятны. Я могу несколько назвать слов каких-то — вроде там «кулак», «колхоз», «тема», «темп-линия» там, «массы»: это совершенно непонятно будет, потому что эти слова переводятся, но ореола — или, как сказать, ауры — у них нету и скоро они не будут ничего значить даже у нас. И чем дальше, тем более голыми эти слова будут. Для меня они еще кое-что значат, но, наверное, гораздо меньше, чем для моего отца значили, да? Вот это нельзя перевести, действительно. Ну, вообще, если строго говорить, то ничего нельзя перевести с чужого языка так, чтобы слово имело объем, который оно для местного жителя составляет.
Значит, первое удивление было... И я помню, что Андрей Сергеев (был такой переводчик и писатель, замечательный переводчик стихов английских и американских) сказал, что этот текст написан мыслящим идиотом. Ну, надо еще посмотреть, какого он имел в виду идиота, потому что у греков это значило просто частное лицо, которое не принимает участия в общественных делах. Вот. Но меня как-то очень устраивает эта формулировка.
Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь читать его, — колоссальное количество бюрократизмов и канцелярского языка. Потом писатель Марамзин (он уехал потом в Париж), который собирал полную, насколько это было в его силах, библиографию Платонова совершенно бескорыстно, никто ему за это не платил. Он сказал, что там очень много библейских ходов по прямой. И я думаю, что, по крайней мере, что касается «Котлована» («Чевенгур», наверное, в меньшей степени), Платонов главный авангардист был наш, никто другой с ним не сравнится. И главный обновитель языка.
Другое дело, что это повторить никто не может, хотя... Если мы читаем современную прозу, то мы можем увидеть какие-то следы. Скажем, когда-то мне казалось, что у Анатолия Кима есть сильное влияние его. В нескольких рассказах Бакина, замечательного писателя, которого, по-моему, одна книжка вышла и больше ничего не выходило, очень сильное влияние есть. Платоновские языковые особенности такие сильные, что если ты сидишь работаешь, переводишь, то очень большой соблазн есть, что ты тоже начинаешь… ну как бы идиотничать. И поэтому во время работы ни в коем случае ни за месяц до, ни месяц после нельзя читать его, потому что это очень заразительная проза, да?
И вся эта корявость и нескладность его. Она происходит от того... впечатление такое, что человек впервые говорит на русском языке и вообще впервые видит вещи. Там есть что-то очень детское. Не первобытное, поскольку он был очень образованный человек, к 21 году у него уже было 200 публикаций в местных газетах. Он был воронежский крупный уже литератор такой. С кем-то он там Канта обсуждал и после писал и на Джойса рецензии, и на Пруста. А вид совершенно такого первобытного человека. Поэтому его любят почему-то иллюстрировать Филоновым — вот такими рожами, да? Но это как бы иллюстрирует не его самого, а его, грубо говоря, персонажей. Мне лично кажется, что если ему искать в живописи параллель, то это первым делом будет Сезанн, который хотел понять мир в его основе, вне преходящих каких-то явлений — основную конструкцию мира понять. И у Платонова это происходит. У Древина пейзаж есть, такая картина, которая называется «Окраина». Там просто какой-то белый домик или сарай стоит — и пустыня вокруг. У Платонова почти все время пространство такое и есть. Там пустой мир такой совершенно.
Ну вот, я говорю, что он расстался с какими-то всеми нормами, установлениями приличной русской прозы, с одной стороны. А иногда даже с грамматикой расставался. Но расстался таким сильным образом, что это оказалось живым, а не мертвым, не экспериментом, а довольно сильным высказыванием.
Почему такой странный язык в «Котловане»? Мне кажется, что это результат раздвоенности, вообще у нас для писателей здешних это довольно характерно. С одной стороны, он был убежденный социалист — ну просто оголтелый человек. Я прочту небольшую цитату, да? Я взял ее из книги Варламова, которая в ЖЗЛ вышла. «Для осуществления коммунизма необходимо полное поголовное истребление живой базы капитализма, буржуазии как суммы живых личностей. Скажут: “это крайность, кровожадность, слепое бешенство, а не путь к коммунизму”. Нет. Честный вывод точного анализа переходной эпохи. Если мы хотим коммунизма, то, значит, нужно истребить буржуазию, истребить не идеологически, а телесно. И не прощать ее, если бы она даже умоляла о прощении. Пролетарий не должен бояться стать убийцей и преступником».
Андрей Сергеев сказал, что этот текст написан мыслящим идиотом.
Странно, да? Вроде ты совершенно прав — и при этом возникает слово «преступник». Вот уже первая такая осечка умственная, да? «…не должен бояться стать убийцей и преступником и должен обрести в себе силу к этому». А дальше довольно жуткая фраза идет: «Без зла и преступления ни к чему в мире не дойдешь и умножишь зло, если сам не решишься сделать зло разом за всех и этим кончить его». Ну совершенно маразматическая вот такая логика здесь. И при этом им написан «Котлован» — может быть, самая страшная книжка из беллетристики, которая написана в этой стране. Совершенно безнадежная.
О том, что он раздвоен. Он в одном письме, видимо, пишет как раз про это: «Я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я и, полуулыбаясь, писал. Притом то я, которое писало, ни разу не подняло головы, и я не увидел у него своих слез».
Вот, значит, очевидны два человека. Рациональный, с одной стороны; тот, который убежденный социалист и даже жестокий — и ненависть к кулакам, и ненависть к буржуям у него и позже сохранилась. «Котлован» написан после того жуткого высказывания — примерно через семь лет. А люди так быстро не меняются. Люди вообще не меняются, по-моему, после трех лет уже. Они там как-то немножко обтесываются, немножко сдвигаются, но я думаю, что характер у человека остается прежним, и негодяй уже в три года негодяй. И их десять процентов, я думаю, населения. Но, к сожалению, большая сила у них.
Вот, значит, с одной стороны, он — социалист, а с другой стороны, он — художник и, видимо, социалист над ним не властен. Первое, что мне бросилось в глаза после того, как я переварил то, что это бюрократский текст, и после того, как Марамзин мне объяснил, что там много библейского, ну, я стал читать по-другому эту книжку — и еще параллельно с английским. Ну, я уже к тому времени читал «Котлован».
Значит, первое, что там бросается в глаза, это у него система такая сжатий или спрямлений внутри фразы — она может быть и грамматической, и даже по мысли. Мы знаем, можем себе представить примерно, как приличная проза тогдашняя должна была это описывать. Я несколько примеров прочту, если вас утомит, вы мне скажете тогда.
«Он присутствовал в пивной, пока не зашумел ветер меняющейся погоды», да? Вот «ветер меняющейся погоды» — сюда в три слова загнано то, что меняется погода, то, что подул ветер, да? Ну и при чем тут «он присутствовал в пивной», непонятно. А потом опять: «Из неизвестного места подул ветер...» Почему неизвестное место? Ясно, откуда оно. Ветер откуда дует, всегда мы знаем, да? «… чтобы люди не задохнулись. И слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака». Значит, «слабым голосом сомнения»... Вот, дальше очень сильно он рассчитывает на тебя. Я так себе представляю, что слабым голосом сомнения собака должна свою службу справлять, но совершенно не уверена, что ей надо в это время лаять — потому что нечего. И она дала о своей службе знать. Вот — все загнано в три слова.
Почему его трудно читать? Его проходят в школе, да? И я уверен, что там 3/4 людей его не могут прочесть, потому что ты спотыкаешься на каждой фразе и на каждой фразе надо думать, про что там написано, а не просто слова. «Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вощев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб». Во-первых, «за что ты жил» — неправильно просто по грамматике. Потому что «за что ты умер» есть. Но никогда мы не говорим «за что ты жил», да?
И сразу возникает какой-то другой стереотипический взгляд на это дело. «За что ты жил», да? Потому что Вощев тоже не знает, за что он живет. И «скупость сочувствия». Сочувствие... Дело в том, что он в продолжении всей повести не знает, зачем он живет, он ищет истину. И он находит себе родственное существо в этом.
«Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль бездорожной езды». Всё. Вот бездорожная езда — больше ничего не надо говорить, да? Мы знаем: там машины разбиваются, потому что у нас дороги плохие и так далее. «От бездорожной езды» — это явное сокращение, да? И, кажется, корявое, да? Ну вот. А почему «во время прохода Вощева»? Это вместо того, чтобы «пока он шел мимо» — мы ведь знаем, как это пишется, складно когда. Дальше идет такая фраза: «Как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали».
Значит, «заочно живущий». Кто такой заочно живущий? Заочно — это то, что происходит в твое отсутствие, да? Вот если там словарь смотреть, что такое заочное, это когда что-то происходит в твое отсутствие. Так у нас заочно учатся. А что значит «заочно живущий»? Вот это начинаются стихи уже, грубо говоря. Потому что то ли его не видят уже люди, поскольку его уволили только что. То ли он живет заочно от себя. И там вот когда ты смотришь, как там переводят люди, то они тоже это должны придумывать, да? Начинается интерпретация. Но у них нет такого заочного, да? У них in absence будет, и всё, и ничего это не говорит. У нас сюда и очи входят, и то, что его никто не видит, и то, что он на самом деле еще полной жизнью не живет, потому что он не понял смысла жизни.
Или «сила горюющего ума». Горюет ум тут. Опять все загнано в какие-то три слова. И дальше «в тесноте своей печали». Значит, «печаль теснила грудь» и все такое, мы знаем эти дела. А тут «в тесноте своей печали», очень короткое... Но когда ты это читаешь, кажется: ведь правильно, надо так и говорить, лишних слов не надо тратить, да?
«Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил приблизительно: — Некуда жить. Вот и думаешь в голову». Тут вообще, значит, «слишком угрюм для хитрости» — ясно, это уже комический выверт такой. Ясно, что он будет тупой человек довольно. Очень вроде как хороший, только он много убивает кого. И вот это «некуда жить» — если следовать грамматике, мы «куда» не живем, да? Мы как живем, где живем, зачем живем. Но «некуда жить»? Значит, он не видит перспективы в жизни, да? И это ты можешь пропустить как неграмотность, а можешь опять застрять на этом. Потому что — что значит «некуда жить»? А «некуда жить» — я думаю, что он не имеет идеи, вот и все. Или «думаешь в голову». Ну ясно, в голову думаешь, а не в плечо. Но тут это, видимо, для того, чтобы сделать явным это постоянство — что он думает над этим непрерывно. Я не знаю. Ведь это всё домыслы на самом деле, да? Когда ты стихи читаешь, там тоже так... Когда ты читаешь прозу и когда читаешь стихи, ты в этом участвуешь, их ты тоже пишешь, грубо говоря. И здесь тоже. Тут только приходится сильнее участвовать, поэтому больше устаешь.
«Котлован» — может быть, самая страшная книжка, которая написана в этой стране.
«Вощев тихим шагом скрылся в поле и там прилег полежать, не видимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств». Это уже во время раскулачивания происходит. «Участник безумных обстоятельств» — опять неправильная грамматика. Нельзя участвовать в обстоятельствах — можно попасть в них и так далее. «Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками...». Смотрите, «увлеченных двумя мужиками» — у него очень много, на самом деле, книжных и таких возвышенных слов при этой вот корявости. «…увлеченных двумя мужиками за горизонт в свой край согбенных плетней, заросших лопухами». Значит, «край согбенных плетней» — все тоже очень художественно, на самом деле, тут придраться не к чему. Происходит смесь такой вот жуткой какой-то корявости и довольно возвышенных дел. «Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди». Значит, «тишина дворовых теплых мест» — понятное все, да? Но опять это очень сжато сказано. И опять неправильность: стояло на ветру дорог сиротство, колхозное сиротство — но сиротство не стоит, мы это знаем, да?
«Он, Вощев, ожидал, когда же там...» А это «там» — это написано — «мертвая массовая муть Млечного Пути». «…когда же там будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни». Это он все надеется истину жизни понять. Но прекращение вечности времени? Зачем, к чему? Непонятно. Каждый будет думать про это по-своему.
«Сорок или пятьдесят человек народа...» Зачем «народа» — а кого еще? Скотов, что ли? «…сорок или пятьдесят человек народа открыли рты и дышали вверх. А под низким потолком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли». В тумане вздохов; опять в два слова загнано, что парная комната, там надышали, стоит пар, ну и лампада качается. Все в два слова загнано, и больше не надо ничего.
Дальше идет «Ликвидировав кулаков вдаль (это когда их на плотах спустили, да?), Жачев успокоился, ему стало даже труднее, хотя неизвестно отчего». Тут полный абсурд. Во-первых, успокоился, а потом — стало труднее и неизвестно отчего. Известно отчего — оттого, что они довольно много людей сейчас обрекли на гибель. Но теперь интересное возникает: «ликвидировать вдаль» нельзя, да? Мы знаем, что им, кулакам, плоты построили, спустили их куда-то в неизвестность — ликвидировали. Теперь думает Жачев чего? «Весь слой грустных уродов не нужен социализму, и его вскоре тоже ликвидируют в далекую тишину». Вот насчет далекой тишины, ликвидации, тоже непонятно. Что такое далекая тишина? Она там, куда они плывут тихо, — или их уже не слышно, вот этих людей, которых, грубо говоря, обрекли на смерть, да?
А дальше будет немножко комическая история. Козлов уже не хочет быть с какой-то женщиной, «конфисковать ее ласки». «И он написал даме последнюю итоговую открытку, складывая с себя ответственность любви: “Где раньше стол был яств, теперь там гроб стоит”». Ну, это Державин, «На смерть князя Мещерского». «Этот стих он только что прочитал и спешил его не забыть...» Спешил не забыть — опять очень коротко сказано, да? Спешил написать, пока он не забылся...
Дальше. «Сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно задумчивое лицо». Опять: ты лицо не сосредотачиваешь, да? Оно у тебя может быть сосредоточенным. Его не сосредоточишь вниз, да? Равнодушно задумчивый — тоже очень коротко. Что происходит? Он, значит, сосредоточенно смотрит вниз, при этом он не думает, и поэтому лицо у него невозмутимое. А вообще думать ему очень... для него это самый тяжелый процесс, там будет про это еще сказано. И для него, и для Платонова это тяжелое дело. «Сосредоточив вниз»... Он вообще обычно не мыслит, он — землекоп, вот и все.
Значит, про эти сжатия, которые иногда нарушают просто стилистические нормы всей русской прозы принятые, а иногда просто грамматику нарушают. Ну, не знаю, мне кажется, что они нарушают все правила с такой силой, что нарушения становятся в некотором роде стандартами. Только этот стандарт довольно трудно переварить при быстром чтении. Платонов это имел в виду: что проза должна цепляться. И каждый раз она должна заставлять тебя думать, а не просто скользить по строчкам.
Хорошо, когда большие люди пишут, Достоевский или Толстой, — там как бы процесс мышления по ходу дела происходит, а у среднего беллетриста ты обычно действительно скользишь по поверхности, и хорошо, если остается там половина в голове. Он хотел читателя задержать, видимо. Ну, или не хотел — я не уверен, что это все происходит рациональным способом. Это потом рациональным образом оправдываешься, что ты это делал нарочно, — на самом деле ты сперва сделал, а потом находишь этому оправдание.
А второй вариант, вторая сильная черта — это точно, что он пишет много лишнего, в его фразе есть избыточность. Она или в грамматике есть опять-таки, или в самом способе изложения. Слова составляются так, как их нельзя составлять. Это мы уже видели. Мне кажется, у этого есть задача такая подспудная — перейти от эмпирического мира к первоосновам. Потому что опять вот это детское сознание. А почему облака плавают по небу или почему из облака дождь идет — это дети спрашивают, взрослые уже не спрашивают. Там как будто картина мира возникает перед человеком первый раз, и он в первый раз ее описывает — до него никто этим не занимался.
Оттого, что идет переход от временного, преходящего, — к довольно постоянному. Для чего расширения делаются вот эти, да? От такого, совершенно беспросветного, настоящего к возможному будущему — они все там строят этот светлый дом, где будут все люди жить. И если там более-менее внимательно за этим следить, то окажется, что очень много действий... мы обычно делаем, подымаем стакан, чтобы выпить воды. Или подымаем билет, потому что он упал. А у него каждый раз почти... ну, не каждый раз — это я вру, но, наверное, в половине случаев действия имеют какое-то предназначение духовное или психическое и задачей имеют не физическое продолжение действий. Там каждый раз какая-то имеется в виду цель. Все пронизано телеологией такой вот. А иногда эти объяснения просто абсурдны, и мне кажется, что они имеют там целью такой комический эффект.
Как будто если ты плохих убьешь, то хороших станет больше.
«Два кулака от нас сейчас удалились» — это Сафронов говорит (будущий каменщик, пока что он стал большим активистом). И девочка ему говорит: «Убей их». «Не разрешается, дочка. Две личности — это не класс». А была в это время ликвидация кулачества как класса. «Это один да еще один», — сказала девочка. «А в целости их было мало, — пожалел Сафронов. — Мы же, согласно Пленуму, обязаны их ликвидировать не менее как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье осиротели от врагов». Ну, вот это патология, да? «Осиротели от врагов». Хорошо, что осиротеть от друзей даже нельзя уже. А осиротеть от врагов — тем более.
«А с кем останетесь?» — «С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий. Понимаешь что?» — «Да, — ответила девочка. — Это значит, плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало». Логика замечательная, да? Как будто если ты плохих убьешь, то хороших станет больше. Это довольно часто происходит.
«Тебе, бюрократ, рабочий человек...» Ну это там рабочие сидят когда... Вощева уволили, он в пивную зашел. Бюрократ — это пивной человек, который пиво подает. «Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься». «Но Пищевой берег силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия». Ну, в разногласия вступать нельзя — в пререкания вступают, да? И то, для чего он берег силы — для личной жизни, — это ведь здесь совершенно лишнее. Но каждый раз тебя носом тычут: что именно происходит?
«Жачев и прежде, когда Чиклин работал на прочистке реки от карчи (ну, это коряги, да?), посещал его, дабы кормиться от рабочего класса. Но среди лета он переменил курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье». Значит, если ты объедаешь этого Пашкина, начальника профсоюза всего городского, ты приносишь пользу этому всему неимущему движению, да? Совершенно непонятная логика.
Дальше вот то, что нельзя перевести. Как они будут переводить «...и стал питаться от максимального класса»? Кто такой максимальный класс? Ну, для вас это все уже уходит вдаль, а я еще помню, что был партмаксимум, который в 20-е годы ввели и в 1932 году потихоньку убрали. Партийные начальники должны были получать зарплату не больше, чем квалифицированный рабочий, — и это довольно долго выполнялось. Вот это называется «максимальный класс» у него. Я говорю, что скоро Платонова будут читать отчасти как иностранца. Многие слова эту ауру потеряют.
«Жачев не развернул своего свертка, а съел общую кашу, пользуясь ею и для сытости (нормально, да? а для чего ты ешь?), и для подтверждения своего равенства с двумя евшими людьми». Ну, он урод там и так далее. Но он ест с Чиклиным и Сафроновым — значит, он не только для сытости ест — в этом есть элемент какой-то там сильной демонстрации.
Не надоело еще? Нет?
«Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой (ну, это либо кувалда, либо трамбовка), либо рыл лопатой, а думать не успевал. И не объяснил Сафронову его сомнения».
«Имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что думать не успевал». Значит, все перевернуто, да? Такая физика возникает: человек мало думает... ну, как он мало штангу подымает, у него слабые мышцы, да? То же, видимо, с головой — должна насильно распухать, если думаешь. Она не распухла. И, главное, оттого, что много работал руками и не думал, он весь оброс волосами. Тоже совершенно комическое мероприятие — и при этом все понятно, да? Кроме того, что маленькая голова. А какие сомнения у Сафронова? Сафронов его спрашивает: «А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только у нас одних пятилетний план?» Смешно, да. Но его за это еще и убьют потом.
Теперь медведь. «Опустив лапы в ведро с водой, чтобы отмыть на них чистоту, он затем вышел вон для получения еды». Ну, вот это там бюрократское: получение еды, отмыть чистоту. Ясно, да? Не руки отмывает он, не лапы. Он отмывает чистоту на них, на руках. И все понятно тоже: когда ты отмоешь, они станут чистые и так далее.
«Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Вощев продолжал томиться и пошел в этот город жить». Насчет «в этот город жить» исследователи удивляются. На самом деле это правильно, потому что пойти в город можно за чем угодно. Но пошел в город жить — сразу опять очень большое сокращение, хотя кажется, что это лишнее слово, да? На самом деле это очень сокращение большое. Марш движения — тоже двойственное слово. Там то ли под этим движением имеется в виду общее движение к социализму и всему, то ли буквально то, что эти пионеры начинают ходить ногами.
«Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза. Розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время». Опять. «Шли силой тяжести мертвого груза». Платонов был большой инженер, у него были изобретения, он занимался электрификацией и патенты получал тоже в 20 с чем-то лет, довольно рано созревший человек был, он переехал то ли в 1925-м, то ли в 1926 году (то есть ему было либо 26, либо 27 лет) в Москву, чтобы стать писателем. А до этого он занимался ирригацией, построил три электростанции или там наблюдал за ними. 700 прудов при его помощи было сделано. Он несколько лет занимался этим после голода 1921 года. Он к этому времени был уже известным журналистом. Это, значит, ему 22 года, грубо говоря, — и там 200 публикаций. А стихи он начал писать в 13 лет, а работать начал в 14. И первая книжка стихов у него вышла в 1922 году — она у меня есть, «Голубая глубина». Они очень странные — то на одного похожи, то на другого, и тоже с корявостью. Их даже Брюсов заметил.
По человеческому качеству Джойс — это не самая великая литература.
От чего я отвлекся? «И терпеливо шли силой тяжести мертвого груза». Всё, ты гирю видишь, ясно, ходики. Сила тяжести мертвого груза — не пружинные часы. Это уже описывает инженер. Дальше. «Розовый цветок был изображен на облике механизма». Сразу облик механизма, возникает такая красивая история, довольно поэтическая, да? А дальше непонятно: «…был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время». Почему надо утешать всякого, кто видит время? То ли потому, что он смертный... Вот почему утешать надо, уже ты сам должен это придумывать за него, да? А он тебе этого не сказал. И что значит «видит время»? Видит время буквально? Вроде цветок нарисован около стрелок или под стрелками, и ты, когда смотришь, видишь время. Или ты видишь время вообще? Сразу раздвоение получается. Вот это как бы способ поэтической речи, когда слова теснее соприкасаются друг с другом, больше друг от друга зависят, и разные их, как бы сказать, возможные смыслы оживают. Там одно и то же слово может иметь много смыслов. У него это очень сильное дело.
Не надоело еще? Ну вот: «Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула как жила, в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства». Совершенно обманный вариант. Ясно, что ты расстегиваешь, потому что... Они же там только что — копают и спят, да? И, грубо говоря, иногда кашу едят — один раз это, по-моему, описано. Люди вообще не живут в нашем понимании, да? И они, конечно, пуговицы не могут расстегнуть, потому что они безумно устали все, а не потому, что они хранят силы для производства, для следующего дня. Объяснения у него очень часто нелепые — и здесь нелепые. Но дело в том, что, поскольку вся ситуация, которая происходит, абсурдная, ему как бы стыдно это слово употреблять. Я думаю, что очень много от этого происходит: оттого, что происходит, грубо говоря, не жизнь, а мучение — ради какого-то счастливого будущего, неосуществимого совершенно.
Теперь. Убили Сафронова и Козлова, двух бывших рабочих, которые решили карьеру делать — в смысле подниматься по лестнице вверх. Чиклин спрашивает «А кто же их убил?» — «Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем нечаянно». Что значит «нечаянно живем»? Скажем, одна американская переводчица написала «случайно», а другой написал «не имея в виду жить», да? Вот непонятно: что такое «живем нечаянно»? Заброшены в мир. Там начинают Хайдеггера к этому приплетать, что он заброшен в мир, но не в этом дело. «Нечаянно, — произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтобы он стал жить сознательно». Самый лучший способ. И это нормальный способ обращения пролетариата с крестьянами, которые частные собственники, а от этого надо отучать. «Чтобы он стал жить сознательно».
«Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться, чтобы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного». Опять, значит, просто он устоял на ногах... Книжка, я говорю, самая жуткая, наверное, из нашей беллетристики. Ну, я не знаю, там можно с Шаламовым сравнивать, но эта, по-моему, страшнее и безнадежнее. И при этом там очень много или юмора, или насмешки. Платонов довольно язвительный человек был.
«Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего труда». Два процента — видимо, все профсоюзники, два процента взносов, да? Сказано тоже невнятно. Почему тоскующий труд? Непонятно.
«Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание». То есть думать некогда всем. Там почти всем некогда думать, кроме Вощева. «Также и Пашкин наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать». Он уже все знает, да? «Потому что почти все знал и предвидел».
Теперь про Жачева. «Урод проехал мимо окна кухни, которая шумела, как котельная, производя ужин». Кухня Пашкина, он богатый человек, да? Это новые буржуи у Платонова — он уже там понял, что вместо буржуев теперь начальники стали. «На его столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития активности».
Козлов, который слабосильный, уходит в город, чтобы получить пенсию первой категории и там продвинуться по бюрократической лестнице. «Прощай, — сказал ему Сафронов, — ты теперь как передовой ангел от рабочего состава». Ввиду вознесения его в служебное учреждение, да? Тут даже, по-моему, комментировать ничего не надо. А Сафронов там все время... Он каменщиком должен быть. Пока он тоже роет, но он вообще, по идее, каменщик. Но поскольку до каменных работ дело там ни разу не доходит, то он там начинает по части идейности возвышаться. «И Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активно мыслящее лицо».
Потом: «Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку. Уже много точек было изображено в книжке Пашкина, и каждая точка знаменовала какое-то внимание к массам». Это по поводу конкретного человека. «Пашкин обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз». Там сперва строили, потом сказали, что вчетверо надо увеличить, а потом в шесть раз. «...дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте, — и тогда линия увидит его и он запечатлеется в ней вечной точкой». Слово «линия» там, генеральная линия — скоро уже все эти слова забудутся, да? Это просто будет такой некоторый абсурдный бред. А вообще там линия очень сильно наполнена смыслом, про линию все время говорят.
Не надоело еще? «Сафронов сделал на своем лице определенное выражение превосходства, прошелся мимо ног спящих легкой руководящей походкой. “Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей декларации, — с полной значительностью обратился Сафронов. — Вопрос встал принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза”». Откуда берется «массовый психоз» в устах этого человека, совершенно непонятно. Хотя, действительно, массовым психозом там попахивает, поскольку они все как бы бездумные люди. Вот этот массовый психоз меня больше всего удивляет — откуда он выскакивает у Сафронова? Значит, видимо, вместо «психоза» какое-то другое слово было массовое, «идеология» или чего-то, но у него все спуталось.
«Сафронов произнес во рту какой-то нравоучительный звук (это точно уже из Оруэлла) и сказал своим вящим голосом». А что такое «вящий голос»? Это большой или более сильный. Но почему вящий, непонятно, да. Это слово так не употребляется у нас. «Извольте, гражданин Козлов, спать нормально. Что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет?» Это там включили громкоговоритель, что ли.
Мне кажется, что очень многие там сокращения, удлинения — они на самом деле имеют не бюрократический характер, а это вроде стихов. Почему я считаю, что это очень заразительная проза, да? Когда к ней немножко привыкнешь... Ко всему надо привыкать — к стихам тоже надо привыкать, и не с первого раза. И к картинам даже привыкать надо.
«Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов». Вот, значит, «тесовом бреду лесов» — это точно вместо стихов. Во-первых, тут слышны аллитерации, да? А во-вторых, на самом деле не тесовый, потому что тес... На самом деле он должен быть там до20 мм, от силы до 25. А леса застилаются досками, то есть вещью более толстой, да? Значит, «в тесовом бреду лесов». Почему бред лесов, непонятно. Или это картина бредовая вся, что там люди таскают эти козлы с кирпичами, да? Или почему? Или так Вощеву кажется. Я не знаю. А со стихами никогда ничего нельзя объяснить.
«Никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями». Вот это все понятно, да? Это просто такое сокращение, когда во сне ты говоришь с тем... Ну, разговариваешь во сне. «И не разговаривал с воспоминаниями». По-моему, это стихи. «Уже тысячи былинных корешков и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины». В «теснинах тоскливой глины» — это все вместе сбито опять, да? Как в стихах.
Ну, я не буду очень длинно про Прушевского, про него особая история, он там все время собирается расстаться с жизнью — тоже от безысходности какой-то. Ну, у Платонова там в письмах такие варианты тоже были, чуть не предложения даже. Значит, Пашкин поставил радиорупор у землекопов. «Жачеву же и наравне с ним Вощеву становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора: “Остановите этот звук!”» Это, по-моему, происходит постоянно.
«Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах. Эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольствии славы на глазах преданных, убежденных масс». Горячая рука округа — все понятно сразу становится, да? А дальше идет уже сильное усложнение. При том что это рука горячая, то есть она с тобой может очень быстро разделаться, она живет в довольствии славы на глазах преданных и убежденных масс.
«Колхоз, не прекращая топочущей тяжкой пляски…» Это они когда раскулачили, на них находит такое, вроде амока какого-то, они плясать начинают. Хотя уже жизнь кончилась и у них остались одни гробы только. При этом они пляшут. «Колхоз, не прекращая топочущейся тяжкой пляски, тоже постепенно запел слабым голосом. Слов в этой песне понять было нельзя, но все же в них слышалось жалобное счастье и напев бредущего человека». Да.
«Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума». Это все про то же — что он все время ищет смысл жизни или смысл существования. «Лишь бы девочка была целой и готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с течением времени». Там сразу все вперед написано. Они хотят, чтобы Настя была жива, и он уже ей биографию всю прописал — «замучилась с течением времени».
Чиклин «снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся туловище». Это, значит, могилу… я не знаю, может быть, хватит уже, да?
Дальше догадка идет. «Котлован» — там написано, что он написан с декабря 1929 года по апрель 1930 года. 7 ноября 1929 года Сталин напечатал в «Правде» статью «Год великого перелома», где был разговор о коллективизации. 7 ноября. А повесть начата, значит, в декабре 1929 года. Началась коллективизация, начались мятежи, началось это пожирание скота, чтобы не сдавать его в колхозы, о чем у Платонова очень сильно написано, как там снег и еще мухи летают, потому что всех поубивали зверей, сожрали, сколько можно... Не зверей, а животных. Сожрали, сколько можно, а дальше лежит и гниет это мясо. И мухи летают, хотя уже зима.
Значит, год великого перелома, когда будут организованы колхозы, и совхозы, и МТС. И начались мятежи, довольно много мятежей было, о чем как-то нам не сильно преподают, и крестьяне действительно резали скот. Начались эти мятежи, а 27 декабря Сталин выступает на конференции аграрников, и там заходит речь о ликвидации кулачества как класса. Примерно то, что происходит в это время в «Котловане». Если считать по повести, что она с декабря по апрель написана, то в это время, значит, сперва Сафронова и Козлова отправляют коллективизировать, помогать там местному активисту. Потом их убивают там.
И происходит ликвидация — кулаков спускают на плоту по реке. Видимо, очень увлеклись этим, потому что несколько миллионов было сплавлено кулаков довольно быстро, отправлено, грубо говоря, там в Сибирь куда-то на голое место. А 2 марта 1930 года Сталин-то опять напечатал статью в «Правде» «Головокружение от успехов», где речь идет о перегибах на местах, что местное руководство чересчур перестаралось. И на самом деле нужно устраивать не коммуны, как там устраиваются у Платонова, а надо кооперативы устраивать, артели. В общем, это похоже прямо на комментарии к тому, что там ЦК делает (ну или Сталин с ЦК), только комментарии довольно жуткие. Но это как бы домысел. С другой стороны, одна исследовательница Платонова считает, что на самом деле «Котлован» написан позже. Там очень темное место. Ну…
В общем, если так взять весь сюжет «Котлована», то он заканчивается нулевым циклом. Это в строительстве такой неофициальный есть термин «нулевой цикл» — это когда только котлован копают, еще даже не начинают возводить фундамент. Они начинают копать, потом они коллективизируют, потом они возвращаются, продолжают копать, а кончается рытьем могилы для Насти, которая для них — будущее социализма. Вот нулевой цикл в точном виде.
Набоков где-то сказал когда-то или где-то написал, что жизнь имеет тенденцию подражать литературе, да? Ну, мне в голову приходят две вещи. История с Дворцом Советов... В 1931 году взорвали храм Христа Спасителя и начали рыть котлован для Дворца Советов. И эта вещь должна была быть примерно как дом 420 метроввысотой — как 3 пирамиды Хеопса, больше, чем Empire State Building. И в 1939 году только закончили кладку фундамента, да? А в 1941-м, в сентябре, уже было завезено железо туда, рельсы... Ну, балки, материалы. Нужно было их увозить и строить противотанковые ежи, потому что немцы к Москве подходили. В 1942 году уже конструкция немножко над землей поднялась — и разобрали эту конструкцию, потому что надо было эту сталь везти и строить мосты. Поскольку Донбасс был захвачен, надо было северный уголь, не знаю, из Воркуты откуда-то везти. Для этого надо было мосты строить. В результате в 1960 году там построили бассейн «Москва», самый большой открытый бассейн в мире. Котлован остался котлованом. Ну а уже в 90-е годы на этом месте построили копию.
А другое — у меня был сосед в Тарусе. Местный, он там в райкоме комсомола был, потом художником был. Местные плакаты рисовал. И он решил строить дом и тоже выкопал котлован большой на склоне. Не очень удобное место было. По ходу дела у него там жена появилась, двое детей родились. А жил он во времянке такой мазаной. Сарайчик, который был замазан глиной, и там железная печка стояла. Дети маленькие совсем — ну, не грудные, но совсем маленькие.
И вместо того, чтобы дом строить, он стал расширять котлован этот. А потом он начал лить фундамент, сам, один всё. Он умел довольно дешево достать цемент, поскольку он местный был. И керамзит, ну, такие шарики, которые для теплопроводности, или там ими засыпают потолки. Но и этого было мало, потом он опять расширил котлован. А он все время жил в этой времянке холодной. И он так и не кончил этого дела. Потом он опять расширил, опять стал лить. Ну, дальше надо или кирпич добывать, или лес добывать, чтобы верх строить, а он только делал фундамент. Потом он уехал в Крым, а из Крыма он уехал в Казахстан, и там его, кажется, убили. Потом стал один плотник строить тот дом, тоже умер. В общем, этот котлован я вживе видел. Это вообще, видимо, наше такое свойство — что мы хотим сперва основательно котлован вырыть, а потом чего-то там светлое поставить. Вот, вроде всё.
Это, я считаю, Платонову, а не мне аплодисменты.
 © РИА Новости
© РИА НовостиК. Гордеева: Это и вам в том числе. Вам с Платоновым — можно так сформулировать?
В. Голышев: Нет, ему.
К. Гордеева: Хорошо. Значит, есть микрофон здесь. Пока, пользуясь тем, что вы подходите, я спрошу. Вы говорите про такую нашу особенность: строить основательный котлован для того, чтобы построить какое-то светлое будущее возможное. Вы застали довольно большое количество разных периодов нашей истории.
В. Голышев: Да.
К. Гордеева: И не были замечены в активных действиях ни в один из них, я имею в виду политические действия. Но была ли у вас хотя бы однажды надежда на то, что вот оно, светлое будущее, прямо здесь, сейчас, в настоящем?
В. Голышев: Ага. Дня три. В 1991 году. Ну, после путча, да? Происходит путч, кто-то мне звонит, что он прячется, чтобы за ним домой не пришли. А я в метро читаю Ельцина, что он велит всех арестовать этих путчистов, хотя он сидит где-то то ли на даче, то ли уже приехал в Белый дом. Вот.
А потом Руцкой едет освобождать Горбачева. Три дня происходит вроде, ну, действительно, какая-то самодеятельность в стране, и тогда — да, даже некоторые надежды... Ну, потом ты видишь, что происходит около Белого дома.
К. Гордеева: То есть вы ходили сами?
В. Голышев: Ну, я не ночевал там. Но смотреть ходил. И меня удивило... Ну, там танки стояли, наверное, Лебедя танки или чьи, я не знаю, которые как бы защищали. Их немного было. А потом меня поразило, что какие-то довольно грубые мужики влезали на танки, явно такие торговцы, которые завели свои киоски, не интеллигенты никакие, и очень довольно грубо говорили — ну и решительно. И это были не физики и никакие не писатели, а довольно простые люди, которые, видно, только что почувствовали запах кооператива, личного предпринимательства, да? И это была большая надежда, потому что это совсем простые люди и довольно нескладной речью говорили. Ну вот три дня, да, было таких.
К. Гордеева: А на четвертый день что случилось?
В. Голышев: А на четвертый я не помню. Я довольно быстро уехал. Мне надо было ехать преподавать в Америку, я довольно быстро уехал после этого. В том же августе.
К. Гордеева: И тем не менее в Америке вы не остались, а приехали жить здесь — без надежды.
В. Голышев: Нет, что значит «без надежды»? Эта надежда — все это какие-то странные такие слова. Вы вспомните, когда в России хорошо жили, — и тогда мы будем на что-то надеяться. Но жили — пока жили. Пока еще не Африка, да? И не Антарктида. Ну, это уже будет от метеорита зависеть.
Насчет надежды... Почему надежда обязательно должна быть? Надежда — то, что нам проповедовали: через 20 лет будет коммунизм... Это у Хрущева была надежда, да? И то я не знаю, верил он в это или нет. А вообще какая надежда? Ну, я не знаю. Это как бы вопрос существования, а не надежды.
А. Уржанов: У нас есть вопрос из Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим, что они нам скажут.
Зритель: Будьте добры, вот несомненно использован эзопов язык Платоновым. И он попытался как раз изобразить или отразить существование тех самых грубых людей, которые почувствовали запах. Только наоборот. Скажите, пожалуйста, как вам удалось перевести это? Справились ли вы с этим? И как вы справились? Как вам удалось справиться с вот этими особыми оборотами платоновскими, эзоповскими?
В. Голышев: Я этого не переводил — это я для игры своим родственникам читал вслух с листа английский перевод, переводя его на русский, наоборот. А переводили профессионалы — вот Уитни, Мира Гинзбург. Обороты по-английски очень удачно получаются. Дело в том, что там язык как-то больше абстрактность выносит. И вот где у нас сложные грамматические дела — они более естественно по-английски выглядят. Там скорее нельзя перевести вот эти советизмы. Ну, ты их пишешь — «активист», но для них это слово ничего не значит. Оно скоро и для нас будет ничего не значить. Ну, не для нас с вами — я еще могу себе это представить...
Там при переводе, насколько я понимаю, не было сложностей в области грамматики. Непонятные слова, двусмысленные или многосмысленные, вроде «заочно живущего», — вот их приходилось толковать. Так что справлялся не я с этим, а трое детей. Одну-то я знал просто лично, Миру Гинзбург — не знал, видел. И, по-моему, справились они замечательно. Она же и «Собачье сердце» переводила, и тоже всего одну ошибку я там увидел. «А мы этого кота еще разъясним». Она думает, что действительно выясним подноготную. А «разъясним» на самом деле было посадить, да? Ну, в общем, репрессировать.
И язык не эзопов. Мне кажется, ему самому там так страшно становится, что... Чем страшнее темы у Платонова, тем чудней язык, да? «Реку Потудань» если будешь читать, там довольно все плавно, да? Ну, тоже с платоновскими странностями некоторыми, но у него чем страшнее тема, тем страшнее язык. Это не эзопов язык — я думаю, что это там в организме что-то происходит: эту невыразимую картину нельзя нормальными словами описать. Там, наверное, и страх присутствует, и внутреннее сопротивление, он ведь убежденный социалист-коммунист. Он два раза вступал в Компартию и так и не вступил — один раз вроде из кандидатов ушел, а в другой раз, по-моему, не пустили.
К. Гордеева: А, кстати, есть какое-то единое мнение, Вощёв или Вощев?
В. Голышев: Ну, там буквы «ё» нету, я не знаю. Был человек, который там именами занимался. По-моему, это довольно сильно там с воображением связано. Ну, он от слова «вотще» происходит или от слова «вообще»? Я не знаю. «Ё» нету там. Но у нас вообще «ё» нигде нету уже. По-моему, я плохо ответил, но... Это не эзопов язык, это не эзопов язык. Это язык, по-моему, внутренней борьбы какой-то.
К. Гордеева: Я правильно понимаю, что в Санкт-Петербурге еще один вопрос?
Зритель: Спасибо. Виктор Петрович, мы сейчас поговорили о Платонове как о самом таком характерном представителе и выразителе вот этого своего времени. А по поводу современной русской прозы вы что-то можете сказать? Какую действительность она сейчас отражает? Насколько это легко переводится? Вот какие-то особенности, может быть, с примерами даже? Спасибо.
В. Голышев: Ну, дело в том, что русскую прозу я почти не успеваю читать нынешнюю, да? И читаю знакомых. Я читаю там Каледина или Максима Осипова, да? Их переводят, и, по-моему, там никаких особых проблем для перевода нету. Нет, Платонов — это особая статья совершенно. Как Хлебников особая статья. И даже я не знаю, кого еще назвать можно. У Хлебникова, кстати, я читал переводы, и тоже довольно удачные. Кажется, что «Рассмейтесь, смехачи» невозможно перевести — оказывается, можно перевести.
К. Гордеева: И как?
В. Голышев: Ну, я не помню, конечно, стихов, да и по-русски уже не помню, но можно переводить такое. И Платонова можно перевести. Другое дело, что в этом поймет американец, я не представляю себе. Может быть, те китайцы, которые строили на Западе железную дорогу, лучше бы поняли это, потому что они, видимо, примерно в таких условиях существовали. Я считаю, что все трое хорошо перевели. Просто последний перевод... Они сильно занимались текстологией, они нашли в Питере то, что они считают окончательным как бы вариантом. Там вроде четыре копии было у него, да? Он что-то переделывал. Он, слава богу, не напечатал этого, хотя пытался. Это бы его точно... Нехорошо бы кончилось. И так было плохо, но...
А. Уржанов: Есть ли еще вопросы в Петербурге? Есть.
Зритель: Есть следующий вопрос, Виктор Петрович. Вот вы говорили, что было несколько переводов «Котлована» и каждый был все лучше и лучше. Вы, собственно говоря, довольны переводом, вы как носитель русского языка, как переводчик что-то можете, скажем так, посоветовать тем переводчикам или, может быть, найти какие-то ошибки? Ну вот вы говорили, там где-то иногда что-то встречается. И, наверное, советовать нельзя, но вот, может быть, на какие-то неточности как носитель языка вы же можете указать.
И у меня такой еще побочный вопрос. Что вы думаете по поводу комментирования текста перевода? Ведь некоторый перевод можно снабдить соответствующим историческим, не знаю там, культурным комментарием. Насколько он утяжеляет, скажем так, прочтение? Спасибо.
В. Голышев: Значит, насчет посоветовать. Посоветовать я ничего не могу по одной простой причине: потому что я читатель Платонова, а они — переводчики, и они в это дело влезли гораздо глубже. Что каждый следующий перевод лучше, я этого не сказал, потому что самый последний (перевод Чендлеров), мне кажется, слишком близкий... Он слишком близко и послушно идет к русскому языку. Там, где вроде смысл более понятный, он держится за буквальный перевод иногда, и это сильно затрудняет чтение. Поэтому критерия такого нету. С одной стороны, желательно, чтобы эту книжку читали люди и не умирали от трудностей, а с другой стороны, желательна точность, да? И все время должен быть какой-то компромисс. Поэтому сказать, какой перевод лучше, я не могу.
И действительно, и там, и там есть большие комментарии. Они просто лучше меня это знают, потому что они там и текстологией занимались, и сравнивали, и я им посоветовать ничего не могу. А теперь вот вторая часть какая-то про перевод была.
К. Гордеева: Комментарии переводчика.
В. Голышев: Ну, вот это постоянное несчастье. Я считаю это несчастьем — когда ты должен писать примечания внизу страницы или в конце книжки. Это то, что нельзя действительно перевести, или то, что совершенно чужое для здешнего читателя.
При советской власти полагалось все комментировать. Сейчас, как вы знаете, комментариев очень немного... Если только не переиздают старые какие-то книжки, не перепечатывают буквально, то сейчас никто никаких комментариев не пишет. За границей тоже никаких комментариев не пишут.
Надо сказать, что в отличие от Бабеля Платонов — это очень ограниченный, видимо, круг чтения, круг читателей. И там, наверное, комментарии допустимы вполне. Комментариев много в последней книжке. У Миры Гинзбург меньше. А в первом переводе я вообще не помню, чтобы были комментарии, — там просто на одной странице английский текст был, на другой русский. Билингва была. Я не знаю, ответил на вопрос или нет.
К. Гордеева: Пожалуйста.
Зритель: Виктор Петрович, два вопроса. Первый: каких вы могли бы отметить наиболее сильных, интересных современных англоязычных писателей? Там, может быть, Рот, Рушди, Франзен, кто-нибудь еще. И второй вопрос: есть ли перспектива, что когда-нибудь на русский язык будут переведены «Поминки по Финнегану»?
В. Голышев: А что насчет Рушди и Рота вы спрашивали?
Зритель: Нет, кто вообще из современных англоязычных писателей самый интересный, на ваш взгляд?
В. Голышев: Был хороший писатель Джим Гаррисон, который мне нравился. Рот в какой-то момент... Ну, не знаю, там последнюю повесть я читал довольно слабую его. Рушди почти не знаю, потому что мне его предлагали переводить, но я про эти дела плохо знаю и не стал. И мне не показалось это интересным.
Никого я хорошего не знаю. Вот, значит... Нет, Гаррисон был хороший, но он тоже начинает повторяться. Там Макьюэн хороший. Ну, может быть, они прошли свой пик все, да? Вот последнее, что мне понравилось: эта книжка вышла в издательстве Ольги Морозовой, рассказы Уэллса Тауэра. Вот первый раз какую-то я такую почувствовал большую свежесть. Там девять рассказов. Что-то там новое есть. Это довольно сложно. Ее предложили Бобкову переводить, но он не хотел всю книжку, поэтому он поделился со мной. А мы поделились со студентами — ну, уже взрослыми студентами. Может быть, и неправильно это было. Но, в общем, по два рассказа мы перевели, и четыре рассказа студенты перевели. И это, пожалуй, последнее, что мне сильно понравилось по-английски. По-английски, да. По-русски я уже, естественно, не читал ее.
А так я и не помню. Ну, там какие-то отдельные книжки... Я просто не поспеваю читать. Я читаю, что мне предлагают, но сильного впечатления я давно никакого не получал от литературы, как было еще в 70-е годы. А потом, ты же стареешь, и мозговые клетки отмирают, да? И когда первый раз прочтешь Фолкнера, это одно дело. А когда прочтешь Рота уже попозже, это будет послабее. А потом Рушди прочтешь — это будет еще слабее. Это зависит от… ну, свежести мозгов. Каждая книжка в молодости открытие для тебя.
К. Гордеева: Второй вопрос еще раз повторите. У вас было два вопроса.
Зритель: Есть ли перспектива, что когда-нибудь переведут на русский язык «Поминки по Финнегану»?
В. Голышев: Да, есть Марк Дадян, такой переводчик, который говорит: «Давайте переведем!» Я говорю: «Да что я, с ума сошел, что ли?» Он говорит... Ну, в общем, какой-то проект был, что какой-то спонсор даст на пять книг большие деньги. Дело в том, что это надо всю жизнь переводить, наверное. Нет, я за это точно не возьмусь. Но, наверное, кто-нибудь... вообще можно все, наверное, перевести. Ну, Хинкис лет 20 переводил «Улисса» и недоперевел. В результате его друг заканчивал за него это дело.
Что с «Финнеганом», я не знаю, как надо быть образованным прежде всего. Уже для «Улисса» надо быть образованным или даже для каких-то первых его слабых книжек. А где там какое слово, какое кельтское, какое не кельтское, какое он сам придумал — вообще не поймешь. Разве что какую-то артель собрать, которая будет советовать… Дело в том, что Хоружий, помогавший Хинкису, начал ему помогать по идеологической части, по части философии, а потом стал уже заканчивать, когда Хинкис умер. И Хинкис читал вместе с польским переводчиком. 20 лет, да? Ему, правда, в это время надо было деньги зарабатывать, потому что никто не хотел печатать его перевод — и не хотели даже после его смерти печатать очень долго. А про «Финнегана» я не знаю. Ну, мне кажется, что это вроде Дворца Советов, на самом деле.
К. Гордеева: Спасибо.
В. Голышев: Очень объем большой. Очень объем большой. И по человеческому, надо сказать, качеству Джойс — это не самая великая литература, мне кажется. Он большой изобретатель и все такое. Но вот стоит ли этот дворец строить и захочет ли кто-нибудь?.. Наверное, захочет. Я думаю, что если найдется сумасшедший, то и переведут. Ну, как и Хинкис отчасти сумасшедший был, взявшись за Джойса, не имея никаких шансов. И даже когда уже перевод был... Есть ведь издательская система внутренних рецензий. Книжку готовую отдают, и на нее там пишут две внутренние рецензии — так издательство закрывается от ответственности (с этого я начинал — отказ от ответственности, да?), чтобы можно было на кого-то ссылаться. И я эти внутренние рецензии читал, одна была 80 страниц ненависти, другая там 15 страниц ненависти. Надо было забодать, короче говоря, эту книжку. А потом вышла, видимо, она на суахили каком-то, и уже стало нам неудобно при Горбачеве. Тогда стали внутренние рецензии другим людям заказывать. Одна из них была заказана мне. Почему мне? Ну, я уже хвалил. И его напечатали.
Значит, это я все про «Финнегана»: к тому, что Хинкис на «Улисса» потратил 20 лет и умер, не закончив. А эта книжка довольно простая, технологически она довольно простая для перевода — там ничего сложного нет. Там ассоциации и какие-то культурные коннотации важны очень, вот это надо знать. Но как сам текст он не очень сложный — бывает гораздо более сложный текст. И он потратил на это 20 лет и умер. При этом ему надо было на хлеб зарабатывать. Вот в этом смысле нужен сумасшедший.
К. Гордеева: Пожалуйста.
Зритель: Я немножко добавлю к предыдущему вопросу. Анри Волохонский начинал переводить отрывки из «Поминок по Финнегану», можно спросить, чего он добился? Он даже напечатал какие-то маленькие отрывки.
В. Голышев: Кто?
Зритель: Анри Волохонский.
В. Голышев: Я знаю Анри Волохонского, да. Вот это который в Париже живет.
Зритель: Да-да-да.
В. Голышев: А, ну это не Андрей Волконский, да. Я не знаю. Мне показалось — или это аберрация памяти, — что в сокращенном виде какой-то текст появлялся «Финнегана», только очень маленький, да?
Зритель: Ну, это вот не сокращенный вид, это как раз несколько маленьких отрывков.
В. Голышев: Ну, я не видел этого. Надо жизнь на это потратить. Ну вот кто захочет, тот и потратит.
Зритель: Мой вопрос вот про что. Вы отметили несколько стилистических или текстовых приемов Платонова в повести «Котлован». Интересно, насколько они, во-первых, оригинальны, а во-вторых, универсальны? Насколько их широко можно распространить? Например, используются ли они в другой прозе Платонова? Или в то же время другими писателями? Или он сам из себя их вынул? Или где-то почерпнул? Есть ли какие-нибудь яркие примеры такой игры с концентрацией текста, как вы говорите, сжатия и уплотнения или, наоборот, растягивания смыслов в прозе на других языках? То есть вопрос, собственно, про то, насколько универсальны, или оригинальны, или используются те приемы, которые вы отметили, — и самим Платоновым, и другими писателями?
В. Голышев: Ну, у Платонова это в разной степени концентрации. Потом, я думаю, что это не игра. Я думаю, что там совместился опыт. Он сперва же конторщиком работал, да? Журналистом. Он был как бы техником или инженером. Он писал стихи. Я думаю, что это не игра, это нажитый язык. Он мог его весь использовать. Если ты чистый филолог, то там не будет вот этого техницизма... Тебе не придет это «тяжести мертвого груза». У него везде есть, но в разных пропорциях. Скажем, в 30-е, более поздние годы гораздо более спокойно написано. Да и «Епифанские шлюзы», которые до этого написаны, тоже. Но элементы какие-то есть, да? Это ему свойственно было вот такое своеобразное высказывание. Что касается иностранцев, то я такого особо ничего не читал. Там постмодернисты этим балуются, но это читать скучно и это бросаешь обычно, да? Но в такой концентрации я не читал.
Зритель: А среди русских и советских писателей?
В. Голышев: Дело в том, что это не игра. Когда речь шла о заглавии для этого дела (лекции. — Ред.), я сказал, что это не стиль Платонова, это его язык. Это немножко разные вещи. Стилем ты как-то управляешь, грубо говоря. А мне кажется, что здесь неуправляемая вещь была. Еще надо понять, что, как мне кажется, ему самому было страшно в то время, когда он писал. Вот это остранение происходит. Или там Шкловский это называет «остраннением», то, что там ты чудными глазами на это смотришь, как бы невооруженными, да?
Его все время били, грубо говоря. Бил Фадеев... Сталин недоволен был его повестью. Фадеев писал статью. Началось с Авербаха, начальника РАППа. Потом, уже ближе к войне, в конце 30-х годов Гурвич (был критик такой, которого я потом лично знал уже — естественно, в 50-е годы). Может, самый добрый человек, которого я в жизни видел. Но он тоже его раздраконил. Его щипали беспрерывно, он не состоял в этом истеблишменте советских писателей, у которых уже дома были свои построены там в проезде МХАТа или около Третьяковки. Он довольно чужой был, и его все время щипали. И он даже писал Сталину письмо и в своих ошибках каялся. Страх был постоянный. Все эти ирригаторы, с которыми он там пруды строил, плотины, было дело Промпартии, и они на него давали показания. Но он в это время уехал в Москву — а там, видно, разнарядку выполнили этих посадок, и его не тронули. Но все равно его замучили и в 1946 году закрыли уже, по-моему, окончательно. Он разве что какие-то сказки мог написать.
Я думаю, что это совершенно вопрос не стиля, а вопрос состояния души. Повесть, действительно, самая страшная, и он знает, в каком режиме он существует. Я что-то не то сказал?
Зритель: Не-не-не, я просто с интересом слушаю. Большое спасибо.
В. Голышев: И это не эзопов язык, я думаю, что это внутреннее такое вот какое-то мучение происходит. И поэтому проза мучительная. Кстати, эти люди, которые... вот он там говорит: «Только надо из зла зло уничтожать», да? Вот эти люди, которые его долбали, они все пострадали. Авербаха расстреляли, Фадеев застрелился, Гурвич стал космополитом. Я уже видел его после того, как он перенес удар, да? И его к литературной работе не подпускали — он жил тем, что он был шахматный композитор, шахматные задачи придумывал. Вот это насчет того, что зло, которое с мечом... Это в «Откровении» Иоанна написано, что кто мечом воюет, от меча и погибнет.
К. Гордеева: Спасибо большое. Ваш вопрос?
Зритель: Вы упомянули о библейских мотивах в «Котловане». Вы не могли бы чуть больше об этом рассказать?
В. Голышев: Не, не могу. Потому что это просто обороты. Ну и то, что я говорил: что это как будто в первый раз пишется, а в Библии такого простодушия очень много. Но специально примеров оборотов библейских я не искал.
Зритель: Здравствуйте. Такой вопрос. Вот вы сегодня не раз давали понять, что «Котлован» — это как бы поэзия в прозе. И у меня в связи с этим такой вопрос. В чем главное отличие поэта от прозаика, в чем главное отличие поэзии от прозы и как вы объясните феномен, когда писателю удается быть и прозаиком, и поэтом? Тот же самый Роберт Пенн Уоррен, с творчеством которого мы прекрасно знакомы. Спасибо.
В. Голышев: Ну, я боюсь, что я не смогу на этот вопрос ответить. Где-то у Мольера говорится: «Я не знаю, что я прозой говорю». Как-то понятно, что такое поэзия и что такое проза. Не всегда понятно, когда верлибр происходит, особенно переводной, да? А то мне тоже это кажется прозой.
Платонов — это не всё стихи, да? Там просто очень много таких кусков, которые стихи. И мне кажется, что в стихах не всегда есть поэзия, но всегда есть проза. Если Некрасова возьмем, там вполне... Ну, они там организованы путем ритма и рифмы, но все равно это довольно, как бы сказать, прозаический способ подхода к миру.
К. Гордеева: Кстати, извините, я немножко в актуальность забегу. А вы уже успели ознакомиться с прозаическим произведением поэта Евтушенко, которое сейчас происходит на Первом канале?
В. Голышев: Нет, только вот по интернету видел отзыв на этот фильм, а сам фильм не видел. Кстати, если там о прозе заходит речь, то там ее довольно много, в стихах его. Ну, они там рифмуются и ритм соблюден, но чего-то... Вот то, чего я не могу объяснить, но что отличается. Видимо, когда тебе прямо излагают то, что тебе и так понятно, тогда это будет проза, да? А когда ты сам сильно должен додумывать, тогда это будет поэзия. Видимо, поэзия кроме там большей плотности текста предполагает большее участие читателя, ну, более деятельные мозги у читателя. Ну, вы сами знаете, что ты не можешь за вечер прочесть столько же стихов, сколько прозы. Ну, вот, видимо, больше работы требует поэзия. А там ни фига особого такого не надо.
К. Гордеева: Ну, кстати, говоря, что вы не читаете прозу современную, вы поэзию читаете сейчас?
В. Голышев: Вот, опять очень мало. Я мало читаю, очень мало читаю. Ну, опять знакомых. Гандлевского читаю, Дашевского читаю. Но он уже чего-то давно ничего не давал. А так — нет.
Дело в том, что это очень сидячая работа, которая занимает много времени, да? Буквы. И уже сил на то, чтобы читать, нету. Вот картинку посмотреть или там музыку послушать — да. А тем более с возрастом мозги слабеют.
Чего-то еще мы недоговорили там про Евтушенко, да?
К. Гордеева: Ну, про Евтушенко, да. Надо ли было это делать?
В. Голышев: Я думаю, что это вообще такое полоскание грязного белья. У нас эта культура началась при первых дыханиях свободы, при Горбачеве. Очень стали рыться в чужом грязном белье. Какое кому дело, кто кого устроил на работу, кто кого не советовал брать на работу?
К. Гордеева: Ну подождите, пока обсуждали до сих пор там Пугачеву и Киркорова. А так, чтобы Евтушенко и Бродского, — это как-то еще не было такого.
В. Голышев: Ну, их тоже не надо обсуждать. Это «ихние» дела. Вот мне это кажется... Ну, так устроена эта, как сказать, пресса или медиа, что она вроде апеллирует к худшему в человеке, к нездоровому любопытству, грубо говоря.
Я и без этого знаю кое-что про их отношения, и совершенно не меняет это отношения ни к одному, ни к другому поэту. Бродский вообще считал, что биография ничего не значит, а важно только то, что ты написал. Но бульварная пресса (а она почти вся бульварная теперь) интересуется исключительно — кто с кем спал там... И будет это вытаскивать на экраны. Еще простодушный человек будет рассказывать, с кем он спал, и как, и когда, да.
По-моему, это потеря приличия происходит.
Зритель: Спасибо большое за лекцию. У меня будет следующий вопрос. Вот мне всегда казалось, что платоновские герои и, вероятно, сам Платонов испытывают какой-то фундаментальный страх перед временем, временем как категорией, временем, которое мы условно можем назвать «вечностью». Вот вам как человеку, чувствительному к языку, удалось прочувствовать проявления этого страха перед временем и вечностью на уровне, может быть, стилистических приемов или грамматики?
В. Голышев: Нет, не удалось. Нет, я знаю, что у него часто про это разговор идет. Но еще надо, чтобы он в тебе так же отзывался сильно. Про него я это знаю. Но это там в организм не входит. Ну, видимо, я более суетливое существо. И вообще время — очень сложная история какая-то. Его как бы нету, на самом деле. Очень легко его там в физике построить, тогда будет направление времени ясное, да? Не в механике, а в статистике. А вот в человеческой жизни — я не знаю. Я-то какие-то признаки его знаю, что чем старше становишься, тем быстрее оно проходит, да? Но это, может быть, с отсутствием сил. Или там с отсутствием впечатлений. Но вот вечность — нет, я никогда про это не думал.
Зритель: Да, здравствуйте, Виктор Петрович. У меня есть к вам два вопроса по поводу творчества Сэлинджера. Скажите, пожалуйста, я вот читала ваше интервью про «Рыбку-бананку», про этот рассказ, который вы переводили, и там вы сказали, что после какого-то момента Сэлинджер стал писать хуже. Мне очень интересно, что именно вы имели в виду, какие его произведения? Это мой первый вопрос. И второй вопрос...
К. Гордеева: Давайте по порядку. Давайте по порядку начнем, а то все забудем.
В. Голышев: Ну, я попробую, запомню два. Два еще могу, да. Три — нет.
Зритель: И второй вопрос — такое личное очень. Мне безумно интересно ваше отношение. По поводу перевода «Над пропастью во ржи». Вот перевод Риты Райт-Ковалевой, который, ну, самый первый и тот, который мы все любим и к которому все трепетно относимся, и перевод, что появился после, Максима Немцова, «Ловец на хлебном поле». Можете, пожалуйста, поделиться вашим отношением к этим двум переводам? Поскольку, мне кажется, второй перевод очень много вызвал споров, и отношение у большинства неоднозначное. Стоит ли переводить все настолько дословно и буквально? Или все-таки в переводе нужно использовать какую-то игру, какую-то адаптацию? Спасибо.
В. Голышев: Значит, первый вопрос, почему стал хуже писать. А просто я под конец уже мало читал его. Мне кажется, что... Вот «Фрэнни и Зуи» — это я читал. А потом какой-то мне предложили рассказ один из последних, где этот мальчик (наверное, это Симор был), он из пионерлагеря своего или там из детского лагеря пишет письма какие-то. Он уже там, я не знаю, Шопенгауэра знает, буддизм знает, мне показалось, что это уже чисто головные дела. И я понимаю, что это ребенок-вундеркинд, который потом довольно быстро застрелится в молодом возрасте, но это уже вполне неперевариваемое было — это чисто мозговое дело. Вот там 9 рассказов и «Над пропастью во ржи» — я думаю, что классические произведения. Потом, мне кажется, это все пожиже стало. Очень ограниченный круг интересов и очень ограниченный круг вот этих душевных аристократов у него. Мне стало понятно, что он много не напишет, в молодом возрасте, когда я обалдел от «Над пропастью во ржи».
Что касается двух переводов. Значит, в перевод Риты Райт я заглядывал как-то молодым человеком. А вообще я читал по-английски. Немцова вообще не читал. Мне предлагали там чего-то участвовать в осуждении его — не в обсуждении, а в осуждении. Это не мой бизнес. Человек переводит. И так у него тяжелая жизнь, а еще я... Я по себе знаю, да.
А Рита Райт — конечно, когда ты молодой человек, а она этой феней молодежной не владеет... «Над пропастью во ржи» — замечательная вещь. Там очень много жаргона, который совершенно не требует сносок. Вот это колоссально, что из самого текста ты понимаешь значение слова. А ты вроде знаешь, как теперь молодежь говорит. И когда ты читал книгу в первый раз, ты молодой был. И, конечно, она не сечет — она там пишет «треклятая горка», так никто не говорит и не говорил, по-моему, кроме как в литературе. И пока ты молодой, ты хочешь эту свою феню распространить. А потом понимаешь, что феня — очень временная вещь, вроде медных денег, да? Она уходит. Что-то не уходит и надолго остается. Вот у нас в детстве «классные» говорили, это потом умерло, стало даже неприлично. А сейчас опять «классные».
Но есть признак один простой — до сих пор все читают ее перевод, да? Про Немцова не знаю, а ее перевод до сих пор все читают. Значит, замечательный перевод. Книжку погубить переводчик очень легко может.
Сравнивать я не буду, потому что я вообще не хочу этим сильно заниматься. Для себя я могу, но не публично выступать.
Дело в том, что... Ну, как есть категория людей, которые чужие тексты ненавидят. У меня этого нету, да? Тяжелую судьбу переводчиков я знаю. И чем меньше ты туда приносишь раздражения и зла... Я сто раз слышал: «Так можно разве написать?» Чем меньше ты раздражения приносишь в это дело, тем легче людям жить становится. Другим. Ну и тебе тоже, кстати. Печень не так играет, как у налима отхлестанного.
Зритель: Виктор Петрович, вы свое выступление начали с отказа от ответственности, который, в общем-то, вам не удался — к вам все равно вопросы здесь, конечно, скорее как к литературному критику. Но и тем более вы не отвертитесь от ответственности в случае моего вопроса, потому что он как к переводчику и поскольку я могу даже свидетелем выступить в процессе.
Вы Платонова очень любите, посвящаете ему какой-нибудь семинар, вот занятие на своем творческом семинаре. С какой целью вы как переводчик его так применяете? Ну, как эффективное средство приучить человека все-таки не попадать в плен к языку, его анализировать?
И в связи с этим еще один такой вопрос. Сегодня уже много было сказано про язык Платонова, эзопов он, поэтический или нет. Вы — переводчик прозы, да? Здесь прозвучала мысль, что, возможно, это поэзия. А вам не кажется, что немножко еще дальше надо эту траекторию продлить, что это вообще песни и даже песнь в библейском понимании? Ведь мы не удивляемся в Ветхом Завете оборотам типа «говорил говоря»? Спасибо.
В. Голышев: Значит, первое: зачем с переводчиками это мы делаем? Ну, значит, такая история. Дело в том, что, когда переводишь, у тебя инструментарий очень сужается, ты сильно зависишь от английского — там порядок слов, слова, которые переводятся так или иначе. Если на семинаре мы переводим с перевода английского Платонова... Его, кстати, можно переводить. Чего это мы «Реку Потудань» переводим с английского перевода на русский? А потом ты смотришь, что, оказывается, это слово можно перевести так, а фразу выстроить этак. Потому что, ну, человек тупеет, когда он переводит. Во-первых, он чужим умом живет, а во-вторых, он очень сильно зависит от чужой грамматики. И это, мне кажется, необходимо упражнять для того, чтобы освежаться немножко. Как там мой отчим говорил, что для того, чтобы освежаться, он Ремизова читает, да? Вот очень чистый такой русский язык, очищенный от всякого культурного наноса.
Это первый вопрос был. А второй насчет Библии. Ну, вы сказали, по-моему, все правильно. Я думаю, что да. Так Библию тоже не очень просто читать, да.
Зритель: Ну и переводить тоже.
В. Голышев: И переводить, наверное, тоже. А я на что-то не ответил, по-моему.
Зритель: Нет, просто я думаю, что подход должен быть не прозаическим, не поэтическим, а именно... Я не знаю, как технически это сделать, но исходный момент, я думаю, при переводе Платонова должен быть именно таким — переводить его... Ну, чтобы тоже освободиться от лишней ответственности, скажу так: учитывая изрядную долю песенности именно от слова «песнь», а не «песня», в его прозе. Как прозу, мне кажется, это переводить просто невозможно, ну нельзя просто.
В. Голышев: Ну, мне кажется, что это больше подходит там более простым вещам вроде там «В прекрасном и яростном мире» или «Фро», да? Или даже «Епифанским шлюзам». А здесь, по-моему, очень много всего набито. Ну, песнь не получается, по-моему, из «Котлована».
Зритель: Ну да. Спасибо.
В. Голышев: Но иметь в виду вот то, что это не плоское все, да, наверное, надо. Но это не наше дело — переводить его.
К. Гордеева: У нас вопрос у Александра Уржанова. А у вас последний шанс на вопрос, и мы заканчиваем.
А. Уржанов: Да, потому что мы буквально через пять минут, видимо, уже должны закончить. Наверное, на этот вопрос вы ответите таким же решительным «нет», как и на несколько тех, что были заданы из Петербурга. Вы просто очень коротко упомянули Оруэлла, когда разговаривали про Платонова еще. Какая-то фраза была, о которой вы сказали: «Она почти оруэлловская». Понятно, что они писали совершенно по-разному это, но технически мы можем эти два текста сопоставить как большой эксперимент над языком. Вы видите какие-то параллели? Хотя понятно, что различий-то больше, чем сходства.
В. Голышев: Да, я с Оруэллом сильно сравнивал для себя. У Оруэлла уже построено это светлое будущее, а Платонов строит. Значит, Оруэлл придумал проект языка, и сам роман написан совершенно правильным, очень тесным языком, там даже негде повернуться. Он человек был очень ясной мысли и очень ясного выражения. Это все полная противоположность Платонову.
То, что Оруэлл новояз придумал, — и у Платонова есть элементы новояза, это безусловно. Но он брал его из своего опыта социалиста — и чтения, видимо, наших газет или того, что писали про нас в газетах... Про нас довольно много писали англичане, про наши вот эти социалистические дела. И про свой опыт в Каталонии.
У него даже такое эссе было «Политика и английский язык», как уродуют язык вот эти люди, забывая о содержании. Он создал как бы такую модель языка, которая должна… Идея такая была: ограничить как можно больше язык, чтобы как можно больше ограничить мысль человека, чтобы он перестал думать и был послушный, ну и так далее.
Это как раз полная противоположность тому, что у Платонова происходит. Там и задачи в романах совсем другие. У Оруэлла главная проблема — достоинство человека, свобода, о чем вообще нету даже разговора в «Котловане». Это гораздо более страшная книжка. Хотя у Оруэлла тоже страшная книжка, да? Но там человек за что-то борется, а здесь вообще непонятно, что происходит. В смысле языка у Оруэлла совершенно кристальный язык, там пошевелиться нельзя, когда это переводишь. А у Платонова, наоборот, полная как бы неясность. Ну, не неясность, а слишком сложно. Оруэлл что хочет сказать, он говорит — очень четко и коротко. И совершенно ясно, там нет никаких двусмысленностей, ничего нету. А разница в том, что у Платонова действительно этот язык существует странный, а Оруэлл даже образ его сделал — он модель построил. Он не сам язык создал, он построил образ языка, и довольно отвратительного.
А. Уржанов: Спасибо. Последний вопрос?
Зритель: Здравствуйте. Я заранее извинюсь. У меня вопрос непрофессиональный, потому что я обычный читатель, а не филолог и не переводчик.
К. Гордеева: Ну наконец.
Зритель: Вот. И я давно читал «Котлован», в школьной программе прочитал. И я хотел бы, чтобы вы помогли мне разобраться. Платонов — он сам как относится к своим героям? Он их любит, он их презирает или он, ну, как-то ужасается им? Это вот первый вопрос.
А второе — я точно знаю, что я очень нескоро буду перечитывать «Котлован», потому что для меня эта книжка очень сложная. Ты проваливаешься в язык, это все очень здорово, талантливо. И я, может быть, буду читать какие-то вещи Платонова, которые я еще не читал. Но, как я понял, вы вот здорово в этом разбираетесь. И где вы находите внутренний ресурс еще раз и еще раз перечитывать про эти события, которые, ну, страшные? Спасибо.
В. Голышев: Ну, ресурс в последний раз я нашел, потому что вроде пообещал здесь выступать. Что-то надо говорить. Тоже каждый день не будешь читать это. Просто это требует очень много усилий.
Значит, как он к людям относится. Мне кажется, что там главное — жалость, на самом деле. Главное чувство. Когда он говорит: «Никто не видел моих слез» — мне кажется, что главное — жалость. Он, по-моему, очень сильно не любит тех, кто делает карьеру, продвигается — в социальном лифте, что ли, теперь это называется? Вот он их сильно не любит, потому что для него, по-моему, эти бюрократы и партийцы заменили буржуазию, да? И он так же их терпеть не может, ну, по крайней мере, смеется.
А этих всех... Да вообще, мне кажется, там дружбы нету, любовь какая-то там выморочная у двоих, да? Чиклина с этой девушкой, которая...
Зритель: А к девочке, к медведю?
В. Голышев: Девочку жалеет, медведя — нет, он не жалеет. Я думаю, это вообще там большая такая метафора, это медвежья услуга происходит. Он ходит и доносит на богатых. Мне кажется, что там главный вопрос — жалости. А вот любви — не знаю. Там любви между ними и дружбы нету никакой, по-моему. Вощев, по-моему, или Вощёв (я не знаю) — это вместо него, потому что он его вообще Климентовым хотел назвать сперва, то есть своей настоящей фамилией.
Зритель: Спасибо.
В. Голышев: Это кодла, вот. Когда они едут в деревню, это кодла просто.
Зритель: Спасибо.
К. Гордеева: А вы?.. Что вы ко мне обращаетесь? Вот микрофон стоит. Вас так будет слышно.
Зритель: Прозвучало слово «джаз». Ну, я так поняла, что вы в теме.
В. Голышев: Ну, до какой-то...
Зритель: Вы любите джаз наверняка, слушаете, и, возможно, в 60-е годы вы посещали какие-то концерты, каких-то величайших успели музыкантов застать отечественных или мировых.
В. Голышев: Ну да, с 1955 года я его слушал, как его стал передавать Уиллис Коновер, да? И прекратил, я не знаю, в 60-е годы — я понял, что это очень много уже от жизни отнимает. Вместо того чтобы там пойти куда-то и сделать что-то, ты сидишь и эти два часа слушаешь. Я с этим завязал в 60-е годы насильственно.
Зритель: Но вы ходили куда-то?
В. Голышев: А, на концерты? Несколько раз ходил. В кафе «Молодежном» наши играли.
Зритель: Германа Лукьянова слушали?
В. Голышев: Лукьянова слушал. Как один кто-то сказал — «сейчас опять заведет». Да, там... Ну, и Козлова слышал, и Сакуна слышал, и мне безумно нравилась там такая парочка — Зубов и Бахолдин. А Зубов сюда приезжал недавно уже. Бахолдин умер.
Но в этом какая-то такая сильная романтика была, да. Не романтика, а вроде какое-то такое пятнышко свободы происходило, которое довольно быстро стали прижимать, прикрывать. Ну и раза два я на американских концертах был в Москве. Да не, больше, три, наверное.
Зритель: А на каких именно? Кого слушали?
В. Голышев: Я помню, что когда приезжал Бенни Голсон, мне приятель достал билет. Большое, сильное впечатление было. И там люди, ну, которых ты знаешь уже всех там.
А потом был какой-то концерт в Театре эстрады, где разные люди были. Там, я не помню, чуть ли не Фредди Хаббард был.
К. Гордеева: Последний вопрос.
В. Голышев: Да, только я никак это с литературой не связываю.
Зритель: Не связываете?
В. Голышев: Не, никак. Нет, наоборот, это от нее отдых, я считаю.
Зритель: Виктор Петрович, последний...
В. Голышев: Там свобода потому что...
Зритель: Ну, просто мне показалось, мысль вот эта как ключ... Вот язык в тупике. Как ключ к этому тупику…
В. Голышев: Да там нет. Это Бродский написал, что в тупик заводит. На самом деле он не в тупик заводит, а мне кажется, что сильно открыт вообще в разные стороны. Просто никто не может воспользоваться.
Зритель: В джазе то же самое происходит.
В. Голышев: Да, да. Но до поры тоже.
Зритель: Спасибо.
Зритель: Если это будет последний вопрос, то он будет про счастье (я бы хотела спросить). Если я правильно помню, в самом начале вы процитировали Бродского, который сказал, что счастлива та страна, где невозможно перевести «Котлован». Вот какая страна в этом смысле оказалась счастливой? То есть я хочу спросить, в какой стране, если вы знаете, предпринимались попытки перевести «Котлован», но потом эта затея там была брошена под тем предлогом, что на язык этой страны мучительность платоновской прозы просто не ложится, просто с ней не стыкуется, если, конечно, такое было?
В. Голышев: Я не знаю такое. Я думаю, что он имел в виду как раз ту книжку, которую он писал в предисловии и считал, что это перевести нельзя. Мне кажется, что сам ужас, который описан там, непонятен был, вот, он считал, что поэтому ее перевести нельзя. Ну там то, что эти советизмы — линия, активисты, — это нельзя перевести, это очевидно. Но мне показалось, что этот ужас люди постигнуть не могут, и вопрос не языковый, а... Как это сказать? Ситуационный или там экзистенциальный, как любят говорить.
Это действительно совершенно чужое как бы устройство жизни. Вот описано для них. Я один раз нарвался там с американскими студентами. «Собачье сердце» мы знаем там... Сейчас, кстати, перемены — ну, Преображенский хороший, Шариков ужасный. А американцы на это по-другому смотрят. Они его сделали — он должен иметь жилплощадь, раз он человек. А Преображенский вообще убийца, потому что он его обратно преобразует в собаку. Вот и все. А нам это в голову не придет — только торжествующего хама мы видим в Шарикове, да? А не видим, что Преображенский делает. А он там пришивает начальству какие-то половые органы от гориллы. Он тоже такой, нехороший человек.
Зритель: Скажите, пожалуйста, знаете ли вы какие-нибудь произведения на английском языке небольшого формата, которые не были еще переведены, но которые было бы полезно перевести? Ну или хотя бы приблизительно?
В. Голышев: Вообще знаю. И у меня даже список есть.
Зритель: Нет, ну такие вот, рассказики какие-нибудь. Ну, что-нибудь такое, интересное, но не очень...
В. Голышев: Я не знаю, из какой области. Там их поставангардистов очень мало перевели, но это не всегда благодарная работа, тяжелая. Ну нет, так я не могу вам сказать. Если надо, я вам дам телефон, и я посмотрю в бумажках.
Зритель: Да, надо. Очень надо.
В. Голышев: А вы переводите?
Зритель: Да, я хотела бы сама просто попробовать и какую-то рекомендацию. Хотя бы маленький совет какой-то.
В. Голышев: Ну, я только могу телефон дать. Нет, так с ходу не могу, конечно. Просто когда-то там издательства меня просили список, что надо переводить. Это в горбачевские времена, в которые все были оптимисты такие, надежда была. А потом все свелось к кассе, грубо говоря, к бухгалтерии. И эти второсортные писатели... «Второсортные» — это не оскорбительное слово. Там первосортные — Фолкнер или Толстой, да? А остальные были... ну, вот в этом смысле. Их очень много, и пропущенных много. Но потом это никуда не пошло, потому что надо было уже бестселлеры или модные. И у меня список есть. Ну, я просто могу вам дать телефон, и всё. Если у вас бумажка есть.
Зритель: Есть.
К. Гордеева: Спасибо большое.
А. Уржанов: А сейчас давайте поблагодарим Виктора Петровича.
В. Голышев: Я должен был в конце сказать «спасибо за терпение», да?
СOLTA.RU благодарит РИА Новости и проект «Открытый показ» за помощь в публикации этого материала.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20212279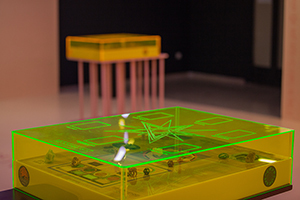 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта
24 ноября 20212683 Общество
ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации
24 ноября 2021369 Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа
22 ноября 2021231 Общество
ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова
22 ноября 2021437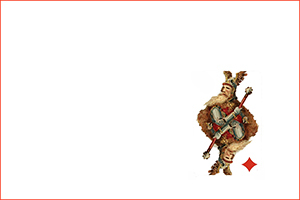 Молодая Россия
Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина
22 ноября 20212208 Colta Specials
Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем
22 ноября 2021234 Искусство
Искусство