 Современная музыка
Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211541 © Gianmarco Bresadola
© Gianmarco Bresadola«Комната Офелии» знакомит с новым поворотом режиссерского мышления Кэти Митчелл. После радикальных спектаклей онлайн, которые шли на экране, хотя их съемка, монтаж, озвучка происходили на сцене, перед публикой; после иных неожиданностей в драматическом (и в оперном) театре она заинтересовалась актерским присутствием — а также концептуализировала структурные уровни, импульсы спектакля, в котором переходы прозаических и поэтических фрагментов соотнеслись вразрез или по касательной с текстом Шекспира. При этом тени известных образов, обернувшихся незнакомцами, существуют здесь в парадоксальной для Митчелл интимной инкарнации.
Для этого ей понадобилась камерная сцена, но не камерное представление.
Железный куб накрывает комнату Офелии с грохотом. Таким залпом захлопываются тяжелые ворота замка. Так звучит пресс-машина на каком-нибудь громадном заводе. Поднимается черный куб — открывается светлая комната Офелии. Камера — тюрьма. А близкая и отдаленная Дания остается за малой сценой театра Schaubühne.
На черном кубе — титры. Они объявляют названия эпизодов двухчасового спектакля: оборона; затаив дыхание; обморок; агония; клиническая смерть.
Слева от тяжелого куба, с лязгом обнажившего комнату Офелии (Дженни Кёниг) с окном и легкой белой дверью, — крохотное пространство с железной дверью. Она ведет на просторы природы. Ее открывают, закрывают на ключ Лаэрт, Гамлет, Клавдий. Из-за кулис в камере Офелии прозвучат крики петуха, уханье совы, тихая музыка, будет слышен хруст шагов по гравию, гром непогоды.
В спектакле Митчелл Офелия расстается с мифом о себе — героине Шекспира.
В комнате Офелии — девичья кровать с белоснежным бельем, трюмо без зеркала, с ящичками, куда она складирует письма Гамлета, записанные на кассеты, принесенные служанкой, и — старый магнитофон. Отложив вышивание, Офелия вставит кассеты, послушает непристойные отчаянные признания принца. Выключит запись и вновь нажмет play. На белом полотне вышито красными нитками: I am so happy и — сердечко.
В этой комнате есть и вешалка. На ней — куча платьев, ночная рубашка и плащ. Под вешалкой — резиновые сапоги, туфли. Рядом с кроватью — мусорное ведро, куда Офелия исправно выбрасывает из стеклянной вазы с водой букеты цветов, которые каждое утро приносит служанка от Гамлета. Живые цветы превращаются сразу в мертвые и истерзанные.
Офелия сидит на стульчике в нижнем белье. Начинает одеваться. Ворох платьев — трикотажных, шелковых, бархатных, льняных — на случаи краткосрочного выхода из комнаты — она надевает одно поверх другого, превращая хрупкое тело в кокон, утолщая тело до размеров корпулентной затворницы в одиночной камере. Или — разбухшей (в перспективе спектакля) утопленницы. Это облачение полуобнаженного тела — репетиция финала с отяжелевшим телом протагонистки.
Офелия, слыша шаги в коридоре, многократно выходит на прогулку и мгновенно возвращается, снимает плащ, сапоги. За сценой ее зовет Полоний. Заходит с чашкой, читает. Слышит хрустящие шаги в коридоре — во дворе замка. Получив от служанки очередной конверт с письмом — режиссерский рефрен, она вставляет кассету в магнитофон, слушает, выключает, смущенная непристойным текстом, потом вновь нажимает на play. Письма Гамлета изнурительно для нее эротичны.
Англичанка Алиса Бёрч, пьесу которой срежиссировала Кэти Митчелл, пишет Гамлету письма не для нежного слуха Офелии. Свет в белом кубе — комнате героини — холодный. По ходу спектакля он ритмично сменяется светом лампочки у кровати — теплым, уютным.
 © Gianmarco Bresadola
© Gianmarco BresadolaРитмика спектакля, основанная на скоростном движении Офелии туда-сюда, из комнаты за дверь и опять в комнату, воссоздает условное ощущение времени, сгущенного в секунды, за которые что-то происходит за пределами ее личного пространства. Ритмичная перемена света образует необычную партитуру спектакля. Она сложена по принципу монтажа, который производит действие с лакунами, где нечто случается, но остается вне поля зрения зрителей. Митчелл оставляет их наедине с Офелией. Ее чувства, реакции, настроения инициированы шекспировским текстом, который Бёрч имеет в виду, но никак не интерпретирует. Единственный мотив, отчасти разъясняющий поведение Офелии, — это (шекспировские) наставления Лаэрта с Полонием о том, что принц — не ее звезда, что ей пристало «замкнуться от его похвал на ключ, / Гнать посланных и возвращать подарки». Не пренебрегают Митчелл с Бёрч и наказом Гамлета: затвориться Офелии в обители. Здешняя обитель станет побеленной камерой. Не случаен тут и мотив ключа, который, словно эхо шекспировских реплик, поможет Офелии скрыться от ласковых непристойностей Гамлета. (Лаэрт: «Прощай, Офелия, и твердо помни, / О чем шла речь». Офелия: «Замкну в душе, а ключ / Возьми с собой».)
В спектакле Митчелл Офелия и расстается с мифом о себе, героине Шекспира, и, выведенная из равновесия письмами Гамлета, трупом Полония, который с вываленными мозгами ей проносит в комнату убийца, — освобождается от откровенных искушений принца. Она представляет публике собственную, прежде неведомую, историю.
Можно было бы записать Кэти Митчелл в вереницу режиссеров-феминисток — тем более что ее спектакли «Кристина» и «Желтые обои» напрашивались на подобную трактовку. Доля правды в таком прочтении «Комнаты Офелии» есть. Но не всей правды, хотя образ немецкоязычной Офелии есть проекция закулисных дворцовых интриг, случайностей и притеснений, против которых героиня Митчелл—Бёрч вынуждена взбунтоваться — к тому же она подготовлена к этому шагу психотропными таблетками, которыми ее пичкают дворцовые благодетели, усмиряя таким образом переживания после смерти Полония.
Жанр этого спектакля — психотриллер, минималистский и строгий в конструкции. Рама трюмо без зеркала есть метафора рамы «Портрета Офелии», которая надевает платья, меняет туфли, не зная, как она выглядит. Это рамка, в которую затянут или втянут ее невидимый внутренний — потаенный — мир; о нем никому не догадаться. Даже Гамлету, который внезапно врывается в комнату, включает магнитофон и дергается в макабрическом танце под песню Joy Division «Love will tear us apart»: «Why is bedroom so cold? / You have turned away on your side… / You cry out in your sleep, / All my failings exposed… / As desperation takes hold».
Офелию, пробужденную потихоньку к безумию, запирают на ключ — тем самым «ключом», что выдала Офелия в шекспировском тексте Лаэрту. Ее комната, углубленная в полу, наполняется водой. Там плавают цветы, выпавшие из мусорного ведра, куда Офелия «сплавляла» их, как похоронные венки. Вода поднимается de profundis. Офелия протыкает горло и соскальзывает в «пруд». Никакой ассоциации с мертвой Офелией на картине Милле тут не стояло — Митчелл смерть своей героини не эстетизирует.
Обитатели замка — служанка, Клавдий, Лаэрт — ступают по воде, ее не замечая, они шагают как по твердой земле. Черный куб превращается в стеклянный прозрачный аквариум, в который «под ключ» затворена Офелия.
 © Gianmarco Bresadola
© Gianmarco BresadolaТакова работа Митчелл—Бёрч именно с контентом, а не сюжетом шекспировского текста, отмененным для них лакомством для интерпретации. Сравнимый ход предложили кураторы выставки Double Vision, проходившей этой зимой в Берлине и срифмовавшей 120 гравюр Дюрера с работами Уильяма Кентриджа, побуждая задуматься о динамике диалогических связей художников разных времен и культурной непохожести. Кентридж, родившийся в 1955-м, использовал визуальные мотивы художников немецкого Ренессанса, адаптируя их для персональных графических метафор. Так, на одной из стенок повешены рядом «Меланхолия» Дюрера и лист Кентриджа «Убю говорит правду». Так Митчелл с Бёрч переводят действие спектакля в близкую древность — в 1970-е: не в текущую реальность, но и не в Средневековье. Они оставляют историю Офелии в межвременье, не совсем забытом, но почти утраченном.
Комната Офелии «вырезана» на сцене как образ главы из книги ее жизни. Как метафора ее внутреннего мира. Как пространство, куда она быстренько возвращается из-за кулис, с прогулки, из коридоров замка. Приходит в себя, а не только к себе.
Переключение света обозначает время утра, вечера, ночи. Оно же — сигнал тревоги или тремор утверждения/отрицания, белизны и тьмы — в иносказательном также смысле. Дуализм спектакля, образа Офелии представляет выразительную линию действий, место страхов и решения берлинской Офелии.
Митчелл в этом прозрачном ритмичном спектакле отделяет сознание, подсознательные ночные кошмары Офелии от ее тела. Защищаясь одежками — красивыми платьями, искажающими ее тонкую фигуру, героиня Митчелл—Бёрч бессильна справиться с внутренней беспомощностью и прерывает ее вскрытием аорты.
Цветы, брошенные в корзину, вкладывает ей в руки Клавдий, пытаясь вытащить Офелию на похороны Полония. Но цветок — лилию, конечно, — она возьмет в руки только после того, как проглотит лекарства: ее, словно в психлечебницах, принудительно пичкают психотропными.
Постепенно воздушная стихия белой камеры слипается («сливается») с водной запрудой. Вода тяжелее воздуха, но ее придворные не замечают потому, что Офелия живет в своем мире, а они — совсем в другом.
Повторю: дверь в ее комнату, в ее внутренний мир запирается на ключ, а еще одна расположена поодаль. Обе двери расчленяют пространство спектакля, которое персонажи видимо/невидимо пересекают, но с которым в контакт вступают лишь насильно. Иногда — посильно.
Финальный аквариум за прозрачными стенами куба — вариация «гроба хрустального». Или проще — куба стеклянного, (пуле)непробиваемого. Контраст черного металлического куба, прессующего, ограждающего Офелию в ее камере, и белой комнаты, где упокоилась героиня Митчелл—Бёрч среди напоенных водой, тем самым оживших цветов, буквализирует по-прежнему актуальную связь между потребностью надзирать и наказывать.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211541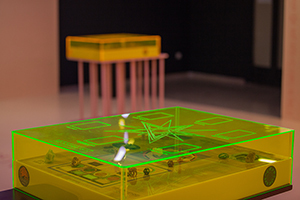 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта
24 ноября 20211849 Общество
ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации
24 ноября 2021261 Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа
22 ноября 2021183 Общество
ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова
22 ноября 2021329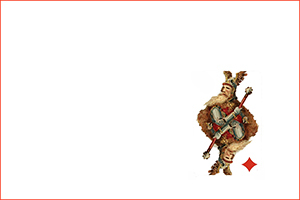 Молодая Россия
Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина
22 ноября 20211559 Colta Specials
Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем
22 ноября 2021195 Искусство
Искусство She is an expert
She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021258