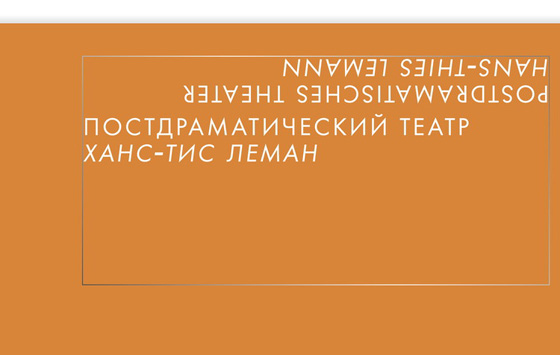Книга Ханс-Тиса Лемана «Постдраматический театр» — ключевой театроведческий труд рубежа ХХ—XXI веков, в Европе именуемый не иначе как «Новый Завет современной сцены», — впервые выходит на русском языке в переводе Натальи Исаевой. Учитывая, что важность этого события выходит далеко за рамки внутренней жизни театрального сообщества, сегодня мы публикуем фрагмент книги, любезно предоставленный в распоряжение редакции Фондом Анатолия Васильева и издательством ABCdesign: мы отдаем себе отчет в том, что на страницах ежедневного издания сложносочиненный искусствоведческий текст Лемана смотрится достаточно экстравагантно, но нам все же показалось исключительно важным представить его максимально широкой аудитории. Колонку Марины Давыдовой о «Постдраматическом театре» читайте на COLTA.RU в ближайшие дни.
Текст печатается в редакции источника.
Пролог
Предпосылки
Вместе с концом «Галактики Гутенберга» письменный текст и книга как таковая оказались под вопросом, более того, сам способ восприятия меняется: одновременное и полиперспективное восприятие замещает собой восприятие линейное и последовательное. Восприятие более поверхностное и, одновременно, более широкоохватное приходит на смену восприятию более центрованному, глубокому, архетипом которого служило прежде чтение литературного текста. Медленное чтение может потерять свой статус точно так же, как основательный и сложный театр теряет свои позиции в пользу прибыльной циркуляции мельтешащих образов. Будучи сведенными к эстетическому процессу продуктивного притяжения и отталкивания, литература и театр оказываются сведенными к положению некой миноритарной практики. Театр более не представляет собой массового средства коммуникации. Становится все более смехотворным и невозможным отрицать это положение, — однако тем более настоятельной становится и потребность его осмыслить. Применительно к тому давлению, которое оказывает очарование объединенной мощи двух этих сил — быстроты и поверхностности — театральный дискурс, по мере того, как он продолжает освобождаться от чисто «литературного» дискурса, вместе с тем, в том что касается его функционирования в культуре, одновременно и сближается с последним, поскольку в театре (так же как и в литературе) речь идет о текстурах, которые в значительной степени зависят от высвобождения активных энергий фантазии. Между тем, эти энергии становятся всё слабее в нашей цивилизации пассивного потребления образов и информации. Однако оба они — театр и литература — организованы прежде всего не как явления, зависящие от воспроизведения, но как явления, зависящие от знаков. Одновременно культурный «сектор» всё более подчиняется закону рентабельности и «продаваемости», а это создает дополнительное препятствие: театр не создает материального, а значит легко продаваемого и свободно циркулирующего продукта, наподобие видеоматериала, фильма, аудиодиска или же книги.
Новые технологии и средства коммуникации становятся всё более «нематериальными» («Les Immateriaux» [«Нематериальные»] — это название выставки, организованной Жаном-Франсуа Лиотаром (J.-F. Lyotard) в Париже в 1985 году). Напротив, театр в значительной степени определяется через «материальность коммуникации» («Materialität der Kommunikation»). В отличие от других форм художественной практики он определяется вполне существенной весомостью своих материалов и художественных средств. По сравнению с карандашом и бумагой поэта, масляными красками и холстом художника, он требует гораздо большего: постоянной активности живых людей, поддержания в надлежащем состоянии сцены, организации, администрации и ремесленной работы, а также чисто материальных требований различных искусств, которые уже внутренне присутствуют в самом театре. И однако же, этот институт, кажущийся попросту реликтом некой древности, всё так же продолжает с поразительной стабильностью находить себе место в нашем обществе, в непосредственной близости с технически продвинутыми средствами коммуникации. По всей видимости, он осуществляет некую функцию, которая сама как—то связана со всеми его кажущимися «недостатками».
Театр — это не просто место тяжелых тел («Körper»), но также и место реального собирания воедино («Realen Versammlung»), где происходит уникальное пересечение эстетически организованной и, вместе с тем, повседневной реальной жизни. В отличие от всех искусств, связанных с объектом и коммуникационным сообщением, здесь присутствует также эстетический акт как таковой (игра), равно как и акт восприятия (посещение театра) в качестве реальных действий, происходящих здесь и сейчас. Театр означает: временной отрезок жизни, проводимый совместно в этом сообща вдыхаемом воздухе пространства, где происходит театральная игра и акт восприятия (смотрения). Произведение и восприятие знаков и сигналов происходят одновременно. Театральное представление — благодаря поведению людей на подмостках и в зрительном зале — позволяет возникнуть некоему общему тексту, даже если при этом вслух не произносится никаких речей. А потому адекватное описание театра непременно связано с чтением этого совместного текста. Коль скоро виртуально взгляды всех участников могут встретиться, театральная ситуация («Theatersituation») образует некое единство как очевидных, так и сокрытых коммуникативных процессов. Дальнейший анализ затрагивает вопрос о том, каким способом сценическая практика, начиная с 70—х годов, использует эти основные принципы театра, осмысливает их и напрямую использует в содержании и темах театрального представления. Ибо театр разделяет с другими искусствами (пост)модернизма вкус к саморефлексии и самополаганию тем. Подобно тому, как, согласно Ролану Барту (Roland Barthes), в современную эпоху всякий текст поднимает проблему своей собственной возможности — «достигает ли язык истины?» — радикальная режиссерская практика проблематизирует сам его статус видимой (кажущейся) реальности. Концепты авторефлексии и структура самополагания тем тотчас же переводят нас в измерение текста, поскольку именно язык par excellence (по преимуществу) открывает пространство игры для саморефлексивного использования знаков. Однако театральный текст подчиняется тем же самым законам и ограничениям, что и все прочие знаки театра, будь те визуальными, аудитивными, жестуальными, архитектоничными и так далее.
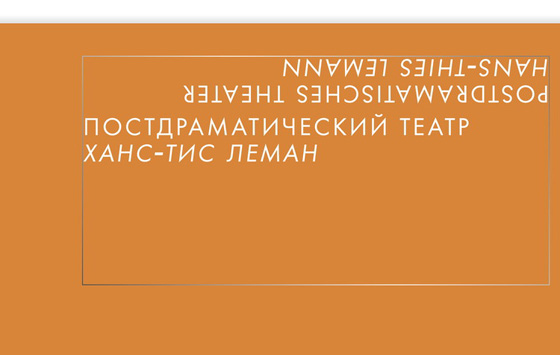 © ABCdesign
© ABCdesignГлубоко изменившийся способ употребления театральных знаков позволяет осмысленно выделить существенную часть нового театра в качестве театра «постдраматического». Вместе с тем, этот новый театральный текст, который беспрестанно продолжает осмысливать свой состав именно в качестве языкового образа, зачастую оказывается театральным текстом, «переставшим быть драматическим». Уже само название «постдраматический театр», поскольку оно отсылает нас к литературному жанру драмы, указывает на тесную взаимосвязь и взаимообмен между театром и тестом, — и коль скоро центральное положение здесь занимает именно дискурс о театре, речь будет идти о тексте только как об элементе, сфере приложения и «материале» сценического действия, а вовсе не о тексте, взятом в качестве главенствующего участника. Речь никоим образом не идет о каком—то априорном оценочном суждении. Будут и дальше писаться значительные тексты, но выражение «театр текста», зачастую употребляемое внутри данного исследования в пейоративном (уничижительном) смысле, вовсе не означает нечто преодоленное и уже оставшееся в прошлом — скорее напротив; просто речь пойдет прежде всего о собственном и аутентичном способе игры, свойственном постдраматическому театру. Однако, учитывая довольно плачевную ситуацию, сложившуюся в теоретическом осмыслении именно вновь возникающих сценических дискурсов («szenischen Diskurse») — если уж сравнивать его, скажем, с анализом драмы, — представляется необходимым рассматривать текстуальное измерение театра прежде всего в свете собственно театральной реальности.
Сегодня, в «тексте театра, более не являющегося драматическим» (Пошман — Poschmann) исчезают «принципы нарративности и фигуративности», равно как и порядок «фабулы»1. Мы приходим к «автономизации языка». Вернер Шваб (Werner Schwab), Эльфрида Елинек (Elfriede Jelinek) или же Райнальд Гётц (Reinald Goetz) — в разной степени продолжая сохранять чисто литературное измерение — сочиняют тексты, в которых язык выступает не как речи между персонажами (если тут вообще еще остаются фигуры, которые можно определить как персонажи), но как некая автономная театральность. Гинка Штайнвакс (Ginka Steinwacks) с помощью своего «театра как устного института» пытается представить театральную реальность как одухотворенную поэтически-чувственную действительность языка. Для данного рассмотрения весьма продуктивным было заимствованное у Эльфриды Елинек понятие противопоставляемых друг другу «языковых поверхностей» («Sprachflächen»), замещающее собой понятие диалога. Как объясняет Пошман2, эта формула обращена против [подразумеваемого] глубинного измерения речей персонажей, которые на деле остаются всего лишь миметической иллюзией. Между тем, метафора «языковых поверхностей» соответствует тому повороту, который произошел в современной живописи, где вместо создаваемой иллюзии трехмерного пространства картины «выводится на сцену» ее действительная двухмерность, а также реальность цвета как автономного качества. Такая интерпретация, разумеется, еще не обязательно означает, что ставший автономным язык являет собой некое уменьшение интереса к человеку3. Возможно, речь идет просто о какой-то перемене взгляда на него? Здесь мы находим скорее явственное выражение такого положения, когда у нас остается всё меньше интенциональности4 — характеристики субъекта — за счет ее вытеснения, всё меньше осознанной воли — за счет страстного желания, всё меньше «я» за счет «субъекта подсознания». Вот почему, вместо того, чтобы сокрушаться по поводу отсутствия определенного образа человека в постдраматически организованных текстах, нам стоит задаться вопросом, какие новые возможности осмысления и представления намечены здесь для отдельного человеческого субъекта.
Намерения
Цель данного исследования не сводится к тому, чтобы представить некий исчерпывающий инвентарь существующих явлений. Мы сделаем скорее попытку развернуть эстетическую логику нового театра. То, что пока подобная попытка еще не предпринималась, объясняется — среди прочего — тем фактом, что сами соприкосновения между радикальным театром и теми теоретиками, чьи мысли как раз и могли бы соответствовать новым тенденциям этого театра, происходят весьма редко. Среди всех исследователей театра теоретики, которые рассматривают науку о театре в постоянной связи с реально существующим театром, то есть как рефлексию (осмысление) театрального опыта («Reflexion von Theatererfahrung»), остаются в меньшинстве. Напротив, философы довольно часто осмысливают «театр» как концепцию или идею, зачастую даже превращая «сцену» и «театр» в структурированные понятия теоретического дискурса, однако они редко конкретно пишут об определенных деятелях театра или театральных формах. Арто (Antonin Artaud), прочитанный Жаком Деррида (Jacques Derrida), размышления Жиля Делёза (Gilles Deleuze) о Кармело Бене (Carmelo Bene), или же классический текст Луи Альтюссера (Louis Althusser) о Бертолацци (Bertolazzi) и Брехте суть важные исключения, которые лишь подтверждают это правило5. Наше определенное тяготение именно к театральной эстетической перспективе, вероятно, делает необходимым замечание, что эстетические исследования всегда затрагивают — в самом широком смысле — также этические, моральные, политические и правовые вопросы, — ранее исследователи говорили бы даже о «проблемах нравов». Искусство, в особенности театр, многообразно вовлеченный в общественную жизнь, — начиная от социального характера самой постановки в виде ее публичного финансирования до способов ее общественного восприятия — пребывает в поле реальной социо-символической практики. Повсеместное сведение эстетики к общественной позиции и громким декларациям по поводу нынешнего состояния общества остается бессодержательным и пустым, однако всякое вопрошание относительно театральной эстетики останется слепым, коль скоро внутри художественной практики театра оно не будет различать соответствующие рефлексии по поводу социальных норм восприятия и поведения.
В нашем описании театральных форм, определяемых здесь как «постдраматические», речь идет, с одной стороны, о том, чтобы попытаться поместить развитие театра в 20-м веке в какую-то историческую перспективу, а с другой стороны — воспользоваться концептуализацией и вербализацией опыта («begrifflichen Erfassung und Verbalisierung der Erfahrung») современного театра, который часто считается «трудным», — чтобы тем самым поспорить о возможностях его восприятия и призвать к развертыванию дискуссий. Ибо нельзя отрицать: новые театральные формы явно отмечают собой произведения самых значительных режиссеров нашей эпохи, они находят себе более или менее многочисленную публику, в основном среди молодого поколения, — публику, которая окружала и продолжает окружать такие институты, как Микитеатер, Каайтеатер, Кампнагель, Моусонтурм и ТАТ во Франкфурте, Геббельтеатер, Сцену Зальцбурга и так далее; они вдохновляют многочисленных критиков, а многие из их эстетических принципов вполне способны «вписаться» в устоявшийся театр (хотя по большей части в весьма разбавленном виде). И однако же, значительная часть публики, которая всегда ждет от театра — грубо говоря — иллюстрации классических текстов, возможно и принимая в какой-то степени «современную» сценографию, всё же остается «абонированной» скорее понятной фабулой, логическими связями, культурными самооправданиями и трогательными театральными чувствами. У такой публики постдраматические театральные формы Боба Уилсона (Bob Wilson), Яна Фабра (Jan Fabre), Айнара Шлеефа (Einar Schleef) или Яна Лауерса (Jan Lauwers), — если уж упоминать кого-то из занимающих наиболее «прочное положение» деятелей театра, — встречают весьма относительное признание. Между тем, у тех, кто убежден в художественной достоверности и значимости театра подобного типа, зачастую недостает концептуальных инструментов, чтобы сформулировать свои ощущения и восприятия. Отсюда и преобладание чисто негативных критериев. Как можно часто услышать или прочитать, «новый театр — это не то и не это». Однако здесь существует еще слишком много пропусков, чтобы соответствующие категории и слова позволяли прийти к какому—то положительному определению, — или хотя бы описанию того, что же представляет собою [подобный театр]. Данное исследование стремится хоть немного способствовать этому, вместе с тем вдохновляя в театральной сфере такие методы работы, которые уходят от общепринятых представлений о том, что такое театр и каким он должен быть.
Одновременно это эссе призвано помочь [читателю] сориентироваться в пестром поле нового театра. Многое здесь — не более, чем набросок, и цель будет уже достигнута, если эти наблюдения смогут мотивировать собой более подробные аналитические исследования. Всеохватная «взаимосвязная картина» нового театра во всех его игровых формах невозможна сама по себе, — и вовсе не по той прагматической причине, что его разнообразие едва ли может быть как-то ограничено. Верно, что это исследование касается «театра современности», однако оно представляет собой попытку дать теоретическое определение того, что требует признания его специфики. Только часть театра последних тридцати лет находит себе здесь рассмотрение. Речь идет не о том, чтобы представить некий реестр понятий, где каждое нашло бы себе надлежащее место; проблема состоит в том, чтобы всякий раз понимать: действительно ли эстетика определенной театральной практики свидетельствует об истинной современности, — или же она всего лишь следует старым образцам, используя хорошо отшлифованные ремесленные техники. Классическая идеалистическая эстетика располагала концепцией «идеи»: это был своего рода набросок умопостигаемого целого, позволяющий конкретизировать (и включать в себя) различные детали, — по мере того, как эти детали развертывались одновременно и в «реальности», и в «понятии». Таким образом, всякая историческая фаза развития искусства могла — согласно Гегелю — рассматриваться как конкретное и специфическое развертывание идеи искусства, а всякое произведение искусства — как определенная конкретизация объективного духа эпохи или же «формы искусства». Идея эпохи или состояния мира в определенный исторический период обеспечивала идеализму тот всеобъемлющий ключ, который и позволял локализовать и укоренять искусство как внутри истории, так и внутри системы. Когда доверие к подобным конструкциям исчезло, — например, доверие к «театру» как таковому, применительно к которому театр определенной эпохи является всего лишь специфическим этапом развития, — плюрализм, многообразие наблюдаемых феноменов вынудило исследователей признать непредсказуемый и «внезапный» (plötzliche) характер изобретения, выдумки (Erfindung).
Вместе с тем, гетерогенное разнообразие поколебало методическую уверенность, которая прежде позволяла легко объяснять неизменную каузальную (причинную) взаимосвязь самого процесса развития искусства. Теперь оказалось достаточно принимать одновременное сосуществование расходящихся в разные стороны театральных концепций, где ни одна из парадигм не может рассчитывать на «доминирование». А потому тут возможно — это было бы вполне возможным следствием — прибегнуть к некоторому представлению, основанному на простом сложении, — представлению, которое признавало бы за всеми игровыми формами нового театра некую изначальную оправданность. Однако такое сокращение, усыхание опыта, сведение его к исторически-эмпирическому перечислению возможностей никак не может нас удовлетворить. Оно оказалось бы всего лишь переносом на современность прежнего представления об исторической необходимости и достаточности, согласно которому если нечто однажды существовало, оно уже eo ipso (тем самым) достойно осмысления. Но ведь театральные исследования отнюдь не должны подходить к собственному настоящему со взглядом и отношением некоего архивариуса. А потому вопрос встает о том, какое содержание найти в этой дилемме или же какое отношение к ней необходимо выработать. Академическая, университетская машинерия лишь по видимости разрешает трудности, вытекающие из такого исчезновения исторического порядка или же эстетических моделей: чаще всего углубление в научную специализацию ученых педантов производит всего лишь набор сведений, всё более и более сложно упакованных. Они уже не представляют собой никакого интереса и никакой реальной опоры для усилий по созданию понятийной базы, которые прилагаются в смежных областях. Еще один возможный ответ состоит в том, чтобы укоренить театральное знание в столь прославляемой ныне междисциплинарности. Несмотря на важность всех этих импульсов, возникающих из попытки хоть как-то сориентироваться, приходится констатировать, что здесь мы сталкиваемся с достойной сожаления тенденцией элиминировать сам предмет и смысл теоретизирования, — то есть сам эстетический опыт как незащищенную и негарантированную, хрупкую по самой своей сути попытку; этот опыт вымывается именно как то, что должно тревожить и беспокоить, — в пользу всё более обширных стратегий категоризации.
Если же мы не хотим превращать осмысление искусства в подобную бессмысленную работу по архивации и категоризации, перед нами открываются два пути. С одной стороны, в духе Петера Шонди (Peter Szondi), можно прочитывать достигшие реализации художественные образы и формы практики в качестве ответов на поставленные художественные вопросы, в качестве ставших проявленными реакций на те проблемы представления, которые возникают в театре. В этом смысле понятие «постдраматический» («postdramatische»), — в противоположность «эпохальной» категории «постмодернистский» («postmoderne»), — представляет собой конкретную проблематику театральной эстетики: Хайнер Мюллер (Heiner Müller) мог констатировать, что испытывает трудности с тем, чтобы вообще как-то сформулировать себя с помощью драматической формы. С другой стороны, можно отстаивать определенное (хотя и контролируемое) доверие к персональной, личной (если уж воспользоваться словами Адорно (Theodor Adorno) — «идиосинкратической») реакции зрителя. Там, где театр вызывает «потрясение», — будь то благодаря воодушевлению, внезапному прозрению, очарованию, увлекательности или даже напряженному (но не парализующему) непониманию, — поле, определяемое подобными опытами, должно быть надежно измерено. Только в процессе подобных экспликаций можно обосновать применяемые критерии осуществляемого нами выбора.
Секреты функционирования драматического театра
В европейском театре на протяжении столетий царит парадигма, отличающая его от неевропейских театральных традиций. В то время, как, например, индийский театр Катхакали или же японский театр Но структурированы совершенно иначе и состоят в основном из танцев, хоров и музыки, и при этом организованы как высоко стилизированные церемониальные действа, основанные на нарративных и лирических текстах, в Европе театр означает реализацию на подмостках неких речей и действий посредством имитационной (подражательной) (nachahmende) драматической игры. Для того, чтобы определить эту прежнюю традицию, с которой и был призван покончить его «эпический» театр, или «театр научной эпохи», Бертольт Брехт выбрал термин «драматический театр». Это понятие может в своем более широком смысле (включающем в себя и большую часть собственного творчества Брехта) вполне обозначить собою зерно европейской театральной традиции Нового времени. Оно существует в сплетении отчасти осознаваемых, отчасти же принимаемых как нечто само собой разумеющееся мотивов, которые, пожалуй, всегда — и без лишних вопросов — принимаются в качестве конституирующих для «театра как такового». Театр по умолчанию мыслится как «театр драмы» («Theater des Dramas»). К его осознанно теоретизируемым элементам относятся категории «подражания» («Nachahmung») и «действия» («Handlung»), равно как и их автоматически принимаемая взаимозависимость. Еще одним сопровождающим, но скорее неосознаваемым мотивом классического театрального представления является попытка создать или укрепить через театр некую социальную связь, то есть общность, которая ментально и эмоционально соединяла бы вместе сцену и зал. «Катарсис» («Katharsis») — это теоретическое название, вытекающее из этой — отнюдь не только эстетической — функции театра: установление аффективного «припоминания» («Wiedererkennung»)6 и ощущения взаимосвязи благодаря чувствам (аффектам) (Affekte), предлагаемым через драму и в ее рамках, а также чувствам, передающимся зрителям. Эти черты нельзя отделить от самой парадигмы «драматического» театра, чье значение, таким образом, далеко выходит за пределы простого различения поэтических жанров.
Драматический театр подчиняется главенству текста. В театре Нового времени представление обычно было всего лишь декламацией и иллюстрацией написанной драмы. Даже когда сюда добавлялись (или начинали доминировать) музыка и танец, «текст» в смысле некой легко схватываемой нарративной и мыслительной тотальности («Totalität») всегда оставался определяющим элементом. Несмотря на все более укреплявшуюся тенденцию к представлению действующих лиц (dramatis personae) через разнообразный невербальный набор телесных жестов, движений и выражений душевной жизни, даже в XVIII и XIX веках еще считается незыблемым, что человеческая фигура определяет себя прежде всего в речах. Текст же, в свою очередь, центрировался по своей функции, непосредственно связанной с текстом ролей. Хор, рассказчик, интермедия, театр в театре, пролог и эпилог, «апарт» и тысячи прочих тонких открытий этого драматического космоса, — вплоть до брехтовского репертуара эпической игры, — вполне могут добавляться и вписываться сюда, вовсе не разрушая этого специфического переживания драматического театра. Действенны ли (и если да, то в какой степени) лирические формы речи в этой драматической текстуре, в какой мере ее меняют эпические драматургии, — в конечном итоге не играет принципиальной роли: «драма как таковая» способна вбирать в себя всё это, не отказываясь от своего драматического характера.
Даже если сейчас трудно судить, в какой степени публика прежних веков подпадала под действие «иллюзии», которую ей доставляли театральные фокусы и спецэффекты, искусная игра света, музыкальное окружение, костюмы и декорации, драматический театр был прежде всего созданием иллюзии (Illusionsbildung). Он стремился построить фиктивный космос (fiktiven Kosmos) и представить «подмостки, которые означают весь мир» скорее как подмостки, которые представляют, то есть позволяют проявиться этому миру, — проявиться абстрактным образом, однако так, чтобы фантазия и вчувствование (Einfühlung) зрителя вполне осуществляли эту иллюзию (Illusion). Для такой иллюзии не нужны ни полнота, ни даже непрерывность представления, — достаточно, чтобы соблюдался принцип: действительно воспринимаемое в театре может пониматься как «мир», то есть как некая тотальность. Полнота, иллюзия, представление мира и составляют модель «драмы». И наоборот, благодаря своей форме драматический театр утверждает полноту в качестве модели (Modell) чего-то реального. Драматический театр заканчивается, когда (и по мере того, как) эти элементы больше не составляют его регулирующего принципа, но становятся скорее возможными вариантами театрального искусства.
Цезура медийного общества (Zäsur der Mediengesellschaft)
Широко распространено представление, согласно которому экспериментальные формы современного театра начиная с 60-х годов черпают все свои основные прототипы в эпохе исторического авангарда. Однако настоящее исследование исходит из утверждения, что глубокий разрыв, который был осуществлен историческим авангардом около 1900 года, несмотря на все свои революционные инновации, тем не менее сохранил самые существенные черты «драматического театра». Вновь возникшие театральные формы по-прежнему служили теперь уже модернизированному представлению «текстовой вселенной». Они как раз пытались спасти текст и его истину от деформаций, наносимых ставшей условной и закостенелой театральной практикой. Короче, они лишь очень ограниченным образом ставили под вопрос обычную модель театрального представления и театральной коммуникации. И впрямь, сценические средства Мейерхольда «очуждали» играемые пьесы самым экстремальным образом, однако эти средства всё равно предлагались в качестве некоего взаимосвязанного целого. И впрямь, театральные революционеры порывали почти со всем прежним наследием, однако, даже прибегая к абстрактным и «очуждающим» сценическим средствам, они крепко держались за мимезис театрального действия. Напротив, в результате расширения власти и повсеместного присутствия медийных средств (средств массовой коммуникации) (Medien) в повседневной жизни людей начиная с 70-х годов возникает некая новая и разнообразная практика театрального дискурса, которая и определяется здесь как постдраматический театр. Разумеется, мы не собираемся при этом ставить под сомнение магистральное историческое значение театральной и художественной революции конца XIX — начала XX века, — целый раздел данной книги будет посвящен возникшим тогда предварительным формам, предварительным тезисам, предвкушениям и ожиданиям постдраматического театра. Однако следует помнить, что при всем подобии форм выражения, сходные средства могут радикально менять свою значимость в различных контекстах. Языковые формы, развившиеся со времени исторического авангарда, в постдраматическом театре вошли в арсенал средств выражения, которые служат тому, чтобы обеспечить театральный ответ на изменившуюся ситуацию в общественной коммуникации в условиях повсеместной трансформации информационных технологий.
Тот факт, что при предпринятой здесь попытке очертить границы нового театрального континента, используя иные критерии, ценности и способы восприятия, возникла также необходимость критически осмыслить целый ряд «неосознанных» импликаций, которые и сегодня характеризуют обычное понимание театра, — можно рассматривать скорее как один из благоприятных побочных эффектов подобного исследования. Параллельно с этой критикой некоторых общих мест, коими наполнены теоретические рассуждения о драме (и которые при ближайшем рассмотрении оказываются весьма проблематичными), мне казалось совершенно необходимым энергично продвинуть на первый план противоречащее этим общим местам понятие постдраматического театра. Это понятие, введенное для определения нынешнего положения вещей, позволяет в ретроспективе яснее выделить «недраматические» аспекты театра прошлого. Новые, недавно возникшие эстетики позволяют решить сразу две задачи: с одной стороны, бросить новый свет на прежние театральные формы и теоретические концепции, а с другой — по-новому понять театральные концепции, с помощью которых мы пытаемся всё это охватить. Понятно, что при рассмотрении некой цезуры в истории художественных форм всегда потребна осмотрительность, особенно когда явление это совсем недавнее. Опасность может состоять в том, что глубина этого постулируемого разрыва окажется преувеличенной: иначе говоря, можно придать слишком большое значение потрясению основ драматического театра (так или иначе существовавшего на протяжении веков), радикальной трансформации сценического элемента в двусмысленном свете нынешней медиакультуры. И всё же, противоположная опасность — видеть в новом всего лишь варианты уже давно известного — представляется (по крайней мере, в академическом отношении) влекущей гораздо более пагубные последствия и неизбежную слепоту исследователя.
<...>
Парадигма (Paradigma)
Целая серия феноменов, располагающихся в театральном пейзаже последних десятилетий, — феноменов, которые с эстетической последовательностью и изобретательностью продолжают проблематизировать традиционные формы драмы и «ее» театра, — делают обоснованным введение новой парадигмы постдраматического театра. «Парадигма» здесь — это своего рода вспомогательное понятие, позволяющее нам очертить общие негативные границы для всех (в высшей степени различных) способов игры в постдраматическом театре, — границы, успешно отличающие их от способов игры обычного драматического театра. Эти театральные работы являются парадигматическими еще и потому, что, зачастую даже против воли исследователя, они повсеместно признаются в качестве аутентичных свидетельств своей эпохи и обретают собственную силу задавать вещам свой масштаб. Понятие парадигмы не должно порождать иллюзию, согласно которой искусство, подобно науке, может быть полностью подчинено логике развития и смены парадигм. Легко было бы, обсуждая стилистические моменты постдраматичского театра, всегда указывать на те из них, которые новый театр разделяет с прежним (но продолжающим существовать) драматическим театром. При возникновении новой парадигмы структуры и стилистические черты «будущего» почти неизбежно смешиваются с теми, что уже отжили. Если же исследование — ввиду этих смешений — будет довольствоваться простой инвентаризацией некоего пестро костюмированного ряда стилей и способов игры, оно не сможет понять по-настоящему плодотворного процесса, который часто развертывается как бы на глубине, в подполье. Без четкого категориального раскладывания по полочкам пока еще не ясно выраженных стилистических черт этот процесс вообще не удастся ухватить. Если взять как пример фрагментацию повествования, гетерогенность стиля, гипернатуралистические, гротескные и неоэкспрессионистские элементы, которые являются типичными для постдраматического театра, то их можно вполне найти и в постановках, созданных согласно модели драматического театра. Только взаимосогласное соединение (Konstellation)7 элементов в конечном счете решает, должен ли некий стилистический элемент читаться как принадлежащий драматической или же постдраматической эстетике. Правда, сегодня трудно представить себе какого-нибудь Лессинга, который был бы способен развить единственно возможную теорию постдраматического театра. Театр как набросок и продвижение смысла, театр как синтез, — а вместе с ним и возможность синтетизирующего, обобщающего истолкования, — всё это осталось в прошлом. Остались только «work in progress» («продолжающиеся проекты»), запинающиеся ответы, частичные перспективы, — тут невозможны никакие советы, а уж тем более — предписания. Задачей теории будет подвести уже возникшее под определенные понятия, а вовсе не постулировать какие-то нормы.
Постмодернистское и постдраматическое
Для театра интересующих нас временных рамок — грубо говоря, начиная с 70-х и вплоть до конца 90-х годов — понятие «постмодернистский театр» прямо-таки напрашивается само собой. Его можно «отсортировать» по категориям разными способами: как «театр деконструкции», «мультимедийный театр», «восстанавливающий ряд театральных условностей — (нео)традиционалистский театр», «театр жеста и движения». Сложность, состоящая в том, чтобы охватить столь пространное поле действительно «эпохально», то есть в соответствии с запросами нашего времени, привела к многочисленным попыткам описать «постмодернистский театр» (начиная примерно с 1970 года) посредством длинного и впечатляющего списка особенностей: двузначность; прославление искусства как фикции (видимости); прославление театра как процесса; разрушение непрерывности; гетерогенность; не-текстуальность; плюрализм; возможность многочисленных кодов прочтения; подрывной характер; многообразные места действия; перверсия; актер, взятый как тема и главная фигура; деформация; текст, служащий лишь базовым материалом; деконструкция; текст, которым пренебрегают как чем-то авторитарным и архаичным; перформанс как нечто третье между драмой и театром; антимиметизм; сопротивление истолкованиям. Предполагается, что постмодернистский театр лишен дискурса, а потому в нем царит медитация, жестуальность, ритм и тон. К этому прилагаются нигилистические и гротескные формы, пустое пространство, молчание. Подобные «ключевые слова» — даже если они напрямую или издали затрагивают нечто действительно существующее в новом театре — не могут быть достаточными ни по отдельности (многие из них, к примеру — «двузначность», «сопротивление истолкованиям», «возможность многочисленных кодов прочтения» — с очевидностью вполне могут относиться и к более ранним театральным формам), ни взятые все вместе, поскольку в этом случае они превращаются в некие лозунги, которые поневоле остаются чем-то весьма общим (скажем, «деформация»), или же обозначают слишком уж гетерогенные ощущения совершенно разного порядка (скажем, «перверсия», «подрывной характер»). Многие из них попросту наталкиваются на противоречия: естественно, в постмодернистском театре существует свой собственный «дискурс». Он столь же мало может быть исключен из развития, как и любая другая практика искусства: применительно к современности мы скорее уж можем сказать, что она в доселе неслыханной степени вовлекает в искусство анализ, «теорию», рефлексию и саморефлексию. Постдраматическому8 театру знакомо не только «пустое», но и «перегруженное» пространство; разумеется, он может быть «нигилистическим» и «гротескным», — но не таков ли, скажем, и «Король Лир»? «Процесс» / «гетерогенность» / «плюрализм» значимы вообще для всякого театра — будь то театр классический, современный или же постмодернистский. Еще в 1986 году, когда Питер Селларс (Peter Sellars) поставил «Аякса», затем в 1993 году при режиссуре «Персов», равно как и в оригинальных постановках опер Моцарта, режиссер жестко и безо всякого специального пиетета перенес классический материал в современную нам повседневную жизнь, — и одного этого было достаточно, чтобы его с тех пор так и называли «постмодернистом».
Выбор термина (Wortwahl)
Само понятие и тема постдраматического театра, которые автор настоящей книги уже на протяжении многих лет пытается ввести в научные дискуссии, были в конечном итоге подхвачены и другими исследователями; так что у нас есть основания сохранить этот термин. Нынешнее исследование поднимает вопросы, которые прежде были всего лишь предварительно набросаны при обсуждении отличий и прямого противопоставления «постдраматического» дискурса всем прочим в процессе сравнения аттической трагедии и современного «постдраматического» театра9. Ричард Шехнер вскользь упоминает специально выделяемое здесь слово «постдраматический», говоря однажды о «postdramatic theatre of happenings» («постдраматическом театре хэппенингов»),10 и еще раз, рассматривая Беккета, Жене и Ионеско, — когда несколько парадоксально упоминает о «postdramatic drama» («постдраматической драме»),11 — где уже не «story» («история», «нарратив»), но то, что Шехнер называет «игрой» («game»), становится настоящей «порождающей матрицей» («generative matrix») (хотя надо заметить, что в рамках нашего строгого употребления терминов всё это относится скорее еще к прежним, «драматическим» структурам ситуаций, текстов и видимостей, развертывающихся на подмостках). В том, что касается новых театральных текстов, обычно говорится (как уже было упомянуто) о «театральном тексте, более не являющимся драматическим». Однако настоящей попытки подробно представить новый театр во всем многообразии его театральных средств именно в свете постдраматической эстетики пока еще не было сделано.
Можно предложить тут целый список оснований, по которым стоит остановиться на понятии «постдраматический», — несмотря на понятный скепсис, вызываемый всеми неологизмами с приставкой «пост-». (Хайнер Мюллер как-то заметил, что ему известен один-единственный постмодернистский поэт: это Аугуст Штрамм, да и тот — всего лишь служащий на почте.) Однако скепсис тут направлен скорее против самой концепции «постмодернизма», которая претендует на то, чтобы давать определение эпохе во всей ее полноте. Многие черты современной практики, которые называются постмодернистскими, — от кажущейся или действительной произвольности средств и вышеперечисленных форм, которые беззаботно набрасываются наудачу как некий коллаж разнородных стилевых особенностей, от «театра образов», — вплоть до «театра смешанных медийных средств» («mixed medias»), «театра мультимедийного» или «театра представления (перформанса)», — еще никоим образом не вскрывают для нас существенного поворота прочь от модернизма, но просто демонстрируют отказ от устоявшихся традиций драматической формы. То же самое справедливо и для многочисленных текстов, на которые обычно навешивается ярлык «постмодернистского» искусства, — от Хайнера Мюллера до Эльфриды Елинек. Если развитие истории, подчиняющееся собственной внутренней логике, более не стоит в центре нашего внимания, если композиция более не воспринимается как организующее качество, но всего лишь как искусно привнесенное извне и привитое «мануфактурное выделывание», как некая псевдологика действия, которая обслуживает только сложившиеся клише (то, что так отталкивало Адорно (Theodor Adorno) в продуктах индустрии культуры), театр действительно вполне конкретно встает перед вопросом о возможностях, стоящих за пределами драмы, — но совсем не обязательно за пределами модернизма. В середине 70-х годов Хайнер Мюллер говорит в своей беседе с Хорстом Лаубе (Horst Laube): «Брехт полагал, что эпический театр невозможен и станет возможным только тогда, когда придет конец этому ужасному извращению: делать из роскоши профессию, — когда придет конец самой этой конструкции театра с его разделением на сцену и зрительный зал. Только когда это прекратится (хотя бы в тенденции и намерении), для нас станет возможным создать театр с минимальной драматургией или почти безо всякой драматургии. А потому сегодня речь идет вот о чем: представлять театр без особых усилий. Я замечаю, что когда я прихожу в театр, мне становится всё скучнее следить за одним-единственным развитием действия за целый вечер. Меня это больше не интересует. Когда же в первой картине начинается одно действие, во второй продолжается совершенно другое, а затем еще третье и четвертое, — вот это развлекает, это приятно, однако тут у нас не будет больше, как прежде, некой совершенной пьесы»12. В этой связи Мюллер жалуется на то, что метод коллажа пока что еще недостаточно используется в театре. В то время, как большие театры под давлением общепринятых норм индустрии развлечений не осмеливаются отклоняться от беспроблемного потребления пустых побасенок, новые театральные эстетики последовательно практикуют отказ от былого действия и совершенства драмы, — при том, что это вовсе не означает отказ per se (как таковой, сам по себе) от модернизма.
Традиция и постдраматический талант (Tradition and postdramatic talent)
Прилагательное «постдраматический» прилагается к театру, который считает себя вправе оперировать за пределами драмы в наше время, наступившее «после» признававшейся значимости самой парадигмы драмы в театре. Это вовсе не означает: абстрактное отрицание, простое желание отвернуться от традиции драмы. «После» драмы означает, что сама она сохраняется в качестве структуры «нормального» театра, но только в качестве структуры ослабленной и в значительной степени утратившей доверие, — сохраняется как ожидание большой части той публики, которая к ней привыкла, как основа многих продолжающихся способов представления, как почти автоматически функционирующая норма собственной драматургии. Мюллер называет свой постдраматический текст «Описание образа»13 «пейзажем по ту сторону смерти» и «взрывом воспоминания внутри мертвой драматической структуры». Постдраматический театр можно описать так: члены или ветви драматического организма, — даже если речь идет об умирающем материале, — продолжают сохраняться и образуют как бы пространство воспоминания, которое одновременно — в двойственном смысле — и «вспыхивает», и «взрывается» (im doppeltem Sinn «aufbrechenden Erinnerung»). Даже сама приставка «пост-» в термине «постмодернистский», где она составляет нечто большее, чем простой жетон для азартной игры, указывает на то, что некая культура или некая художественная практика вышли за пределы горизонта модернизма (как это, впрочем, повсеместно признается), но что они, тем не менее, сохраняют с ним некую связь — будь то «отрицание», «объявление войны», «освобождение», или, скажем, простое «отклонение» и своего рода «игровое постижение, разузнавание»: а что же, собственно, стало теперь возможным по ту сторону такого горизонта? Точно в таком же ключе можно говорить о «постбрехтовском» театре: его, конечно же, нельзя рассматривать как нечто, не имеющее вообще никакого отношения к Брехту, однако, вместе с тем, — хотя он и конституируется теми вопросами, которые поставил Брехт, и теми требованиями, которые он предъявил театру, — театр этот никак не может довольствоваться ныне всеми теми ответами, что прежде предложил нам Брехт.
Стало быть, постдраматический театр охватывает собой настоящее положение / новое повторение / продолжение функционирования прежних эстетик, — например, тех, которые уже прежде дистанцировались от драматической идеи, существующей на уровне текста, или же от основанного на этом театра. Искусство вообще не может развиваться без связи с предшествующими формами. Однако здесь всегда необходимо принципиально различать возвращение к прежнему уже внутри чего-то нового с (зачастую ложной) видимостью сохранения их прежней значимости, — и необходимость соблюдения «норм», которые остаются незыблемыми. Утверждение, согласно которому постмодернистский театр нуждается в классических нормах, чтобы таким образом — как бы от противного — выстроить собственную идентичность,14 основано на смешении внешней оптики с внутренней эстетической логикой его существования. Ибо мы видим, что очень часто критические рассуждения о новом театре предпочитают прибегать как раз к подобным заявлениям. На деле же, именно классические концепции (Begrifflichkeiten), которые затем силой традиции превращаются в эстетические нормы, бывает труднее всего с себя стряхнуть. Верно, что новая театральная практика обычно утверждается в общественном сознании именно благодаря полемическому разграничению с непосредственно предшествующими ей формами, создавая тем самым впечатление, будто она обязана своей идентичностью именно каким-то классическим нормам. Однако провокация сама по себе еще не создает никакой формы. И даже искусство, которое провокативно отрицает прежнее, должно создавать нечто новое исходя из собственной своей мощи, а не пытаться обрести самотождественность (собственную идентичность) всего лишь отрицанием классических норм.
1 Герда Пошман, «Театральный текст, более не являющийся драматическим. Современные пьесы и их драматический анализ» — Gerda Poschmann, «Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre dramatische Analyse», Tübingen, 1997, S. 177.
2 Там же, с. 204 и сл.
3 Там же.
4 Термин феноменологии Эдмунда Гуссерля (Edmund Husserl): «направленность сознания вовне, на объект» (прим. переводчика).
5 См. весьма важную подборку политико-философских текстов о театре Тимоти Мюррея «Мимезис, мазохизм и мим. Политика театральности в современной французской мысли». — Timothy Murray, «Mimesis, Masochism & Mime. The Politics of Theatricality in Contemporary French Thought», Ann Arbor, 1997.
6 В платоновском смысле (прим. переводчика).
7 «Констелляция» — то есть образование «созвездий», организованных единым связным и упорядоченным рисунком (прим. переводчика).
8 Описка Лемана; должно быть: «постмодернистскому» (прим. переводчика).
9 См.: Ханс-Тис Леман, «Театр и миф. Образование субъекта в дискурсе античной трагедии». — Hans-Thies Lehmann, «Theater und Mythos. Die Konstitution des Subjekts im Diskurs der antiken Tragödie», Stuttgart, 1991.
10 Ричард Шехнер, «Теория представления». — Richard Schechner, «Performance Theory», New York, 1988, p. 21.
11 Там же, с. 22.
12 Хайнер Мюллер, «Собрание заблуждений». — Heiner Müller, «Gesammelte Irrtümer», Frankfurt am Mein, 1986, S. 21.
13 Ханс-Тис Леман, «Театр взгляда. По поводу “Описания образа” Хайнера Мюллера». — Hans-Thies Lehmann, «Theater der Blicke. Zu Heiner Müllers “Bildbeschreibung”». In Profitlich (Ulrich), Dramatik der DDR, Frankfurt am Mein, 1987, S. 186—202.
14 Патрис Пави, «Классическое наследие модернистской драмы. Случай постмодернистского театра». — Patrice Pavis, «The Classical Heritage of Modern Drama. The Case of Post-modern Theatre». — In «Modern Drama», vol. XXIX, Toronto, 1986, p. 1.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизия