 Colta Specials
Colta SpecialsБыть русским, сопротивляться Смерти
 © Иллюстрация Анны Михеевой
© Иллюстрация Анны МихеевойКольта продолжает проект “В разлуке” разговором с человеком, который не допускает даже мысли об эмиграции — несмотря на то, что категорически осуждает войну. Это исследователь в области гуманитарных наук — он руководит проектом в одном из российских исследовательских учреждений. Кольта не раскрывает имени собеседника из соображений его безопасности.
***
Вы говорите, что очень устали. Это бытовая усталость, потому что у вас дел много? Или ваши силы уходят на переживания каких-то вещей?
Мы с коллегами за последние три года стали гораздо больше работать— и вместе, и по отдельности. Но моя усталость еще связана с болезнью, она из-за биполярки, от которой я лечусь. Очень плохо работает голова, низкая фокусировка, мало сил. Что-то такое.
Вы легко согласились на это интервью? Или для вас болезненно говорить о своем выборе оставаться в России?
Мне это трудно. Трудно из-за страхов внешнего и внутреннего характера. Но с другой стороны, мне хочется говорить, потому что я чувствую себя одиноко.
А как вы приняли это решение не уезжать?
А я его не принимал. У меня не было даже такой мысли. Может, она защекотала только в первый месяц, когда все тронулись с места. Мои ближайшие друзья очень быстро, в течение первого месяца, уехали из России. И чуваки прямо требовали от меня, что я тоже должен уехать. Но рассматривать это всерьез невозможно было из-за трех вещей.
Во-первых, мне не нравится сама идея эмиграции. Мне гораздо понятней идея жизни под давлением.
У моей профессии есть опыт такого существования в подавленных условиях. Я вырос на книжках про людей, живших в 1920–1930-е, и есть ощущение, что можно пройти через происходящее в стране и сохранить себя — если ты жив и не посажен.
С эмиграцией у меня всегда было очень сложно. Исторический опыт эмиграции я знаю меньше, и я чувствую его хуже, чем этот период жизни в СССР. Мне немного приходилось читать старую эмигрантскую прессу, и те процессы, которые в ней обсуждались, но главное, интонационные стилистические штуки, которые там присутствовали, меня отталкивали. Я не мог представить себе место в такой среде.
Я сейчас говорю совсем, может быть, ерунду. Но. Приползти домой в раздавленном состоянии, сесть и писать что-то свое в советской бессмысленности как будто бы я могу. А вот вылететь в открытый космос другой страны, выбирать между русской тусовкой и попыткой интеграции в новое общество — это будто бы для меня сложнее. Но вы слышите, насколько мои представления об этих выборах архаичны.
А что именно в эмигрантской прессе прошлого века вызывало у вас такое отторжение?
Высокий уровень эмоциональности в полемике, не имеющей отношения уже ни к чему. Мне кажется, что в какой-то момент человек как бы теряет право говорить об оставленном с тем запалом, с каким ему хочется. Это, ну, это как бы про фейсбук (признан экстремистской организацией и запрещен в России. — Прим. ред.).Эмигрантская пресса середины 20-х годов была на него похожа.
А сейчас в эмигрантских медиа вы видите то же самое?
А я их не читаю.
Вы сказали про три вещи, из-за которых эмиграция была для вас невозможна. Какие другие две?
Вторая — я не могу перевести семью. И третье — у меня есть дело, которым я занимаюсь. Оно не мое: это дело целой команды, и внутри команды эта возможность уехать есть как будто бы только у меня. А желания вроде бы нет ни у кого.
Вы сказали, что вам мешают говорить о вашей нынешней жизни в России внешние и внутренние страхи. Какие?
Внешние страхи связаны с тем, что мне очень важно не подставить коллег, с которыми я работаю. Я впервые в жизни очень долго делаю любимые вещи в прекрасных условиях. И я уважаю людей, которые мне в этом помогают.
Но мой главный внутренний страх такой: мне кажется, говорить об этом — не очень полезная психотерапия. Мне не очень приятно формулировать для самого себя, почему я живу сейчас так, как я живу. Еще раз проходить этот путь от относительно свободного человека к осторожному.
Например?
Например, мои представления об искренности подразумевали, что свою позицию нужно постоянно артикулировать. Постоянно напоминать о войне, постоянно транслировать во внешний мир, что я помню об этом и считаю несправедливым. Но я с самого начала занял очень молчаливую позицию.
Помню, что в первый день войны я пошел на митинг в центре города. Это была странная тусовка: стояло очень много растерянных, подавленных людей.
В какой-то момент кто-то выкрикивал “Нет войне” — и его утаскивали [полицейские]. Как будто старинный кассовый аппарат звякнул — “дзынь”, — у тебя чек на 30 тысяч рублей [штрафа]. И вот ты стоишь и думаешь: нахера мне тратить эти 30 тысяч?
То, что я мог тогда сделать, называется “возвысить голос”. С одной стороны, это было не страшно: за типическое действие ты получаешь типическое наказание. Так вот я стоял и взвешивал: на одной чаше — возможность сделать хоть что-то, на другой — цена 30 тысяч. И у меня не сложилась картинка, не появилось внутреннего импульса потратить эти деньги.
И как вы себя чувствовали тогда на митинге, когда решили промолчать? Вам пришлось за это решение потом расплачиваться с самим собой?
Мне кажется, что нет. Мое молчание — оно вырастает из… Ох, я уже боюсь в это лезть. Оно вырастает из моего представления о том, что “праведники, возвышающие голоса” — это самосады, люди, сажающие себя сами, и они претерпевают страсти за возможность напомнить другим о несправедливости. Если их жертва недостаточно заметна, то она не сработала.
Я не готов на дорогостоящие риторические действия. А что же такое тогда для меня не риторический, а реальный вклад, я не знаю. Я точно знаю, что я вырабатываю своей деятельностью какой-то небессмысленный кислород для людей вокруг меня, но в сегодняшнем контексте он не сильно заметен. Но я решил про это сейчас много не думать.
В первый же день войны я полностью ушел из социальных сетей. Сперва я был огорошен. Я понял, что ничего по этому поводу не могу сказать — просто не могу связать двух слов.
Я понял, что, если я не могу в полной мере описать то, что я ощущаю и думаю, то ничего другого писать нет смысла. Теперь я не могу общаться с миром, не сказав всего, что во мне есть [по поводу войны]. С другой стороны, с социальными сетями у меня было как с этим митингом.
Я сперва отложил задачу что-то сформулировать, а потом вообще перешел в режим наблюдателя. Я начал молчаливо заботиться о себе, о своем деле, о своей семье, делать то, что я считаю полезным и важным — но с закрытым ртом.
Кроме того, что вы удалили соцсети, у вас же наверняка и в работе тоже возникали какие-то вещи, которые вам неприятны, на которые вам приходится идти? Какие-то ограничения?
У нас нет ограничений, которые бы транслировались сверху. Мы сами придумываем себе ограничения. У нас когда-то были рабочие контакты с коллегами из Украины, и часть совместно сделанных с ними вещей оказалась вдруг токсичным активом — их пришлось удалить.
И это все, что вам пришлось сделать? В остальном вы работаете точно так же, как раньше?
Мне кажется, да. В первый год войны я практически не включал самоцензуру. Я включал ее, только когда мои слова могли нанести вред коллегам.
А на второй год войны я начал защищать уже самого себя. Начал следить за базаром. Это удивительно — мне кажется, я никогда так не делал. Я очень плохо слежу за базаром, всегда. А тут начал.
А когда вы впервые себя на этом поймали?
Это было, кажется, публичное выступление, на котором была абсолютно незнакомая аудитория — приезжие ребята, непонятные мне студенты. И у меня впервые кольнуло сердце — я не понял, что это за люди, как они настроены. Я не знал, можно ли использовать перед ними сейчас слово “война”. И в итоге я просто через это перепрыгнул.
Эта самоцензура ощущается сейчас все еще как что-то стыдное? Или уже как просто обычная мера предосторожности — знаете, как во время пандемии мы надевали маску — и вообще никаких эмоций?
Первый раз это было скорей удивительно А сейчас я уже просто перестал использовать в публичной речи все обороты, связанные с войной.
Вы говорите, что с работой в условиях давления и потенциальных репрессий можно справляться. А я вот лично не знаю, например, как справляться. Хотя у моей профессии тоже есть опыт работы под давлением.
Нет, вашей профессии и не существует в условиях авторитарного государства. То есть это не журналистика, это что-то другое. Быть журналистом в стол — невозможная история. А я могу заняться, например, недорогими проектами, собирать данные, делать книжки. Я уверен, что смогу найти себе сейчас много осмысленной работы.
Вы говорите, что эмиграция для вас невозможна по двум причинам: во-первых, вы не можете бросить ценную для вас исследовательскую работу, а во-вторых, не хотите интонационно совпадать с оторванными от реальности высокопарными суждениями о судьбах родины. Но насколько я понимаю, если бы вы свой исследовательский проект перевезли за границу, его ценность не исчезла бы. А споры в фейсбуке можно просто не вести, и все. Если изъять из уравнения эти две переменные — объясните, какая еще у вас есть причина не уезжать?
С работой все сложнее. Я не очень конкурентоспособен — плохо себе представляю заграничный научный рынок, у меня не очень хороший английский.
Ну, простите, перебью, но можно же в другом институте, в любом европейском, заниматься аналогичным проектом.
На самом деле нет. Все знакомые мне организации, готовые принимать русских сотрудников, уже трещат от количества новичков. И людей берут на новые темы и на проблематику, нужную принимающей стороне. Привезти уже собранный проект, требующий ресурсов, привезти вместе с собой уже собранный коллектив, адаптировать деятельность под местные реалии невозможно.
Но про работу — это даже не самое важное. Мне кажется, я завишу от тонкости передачи смыслов. Я завишу от разговора и коммуникации, я очень гуманитарный человек. И для меня... Я не знаю, за какое время я бы смог вывести свой английский, или какой там нужен еще язык, на тот уровень, чтобы иметь возможность так же сходиться с людьми, как я могу сходиться сейчас.
Здесь... Ну, здесь я в своей языковой среде.
Про язык — очень хорошо вас понимаю, конечно.
Так что у меня продолжилась здесь моя жизнь, и она была сложной, у меня было много интересного эмоционального опыта, мучительного, но много и хорошего.
Вы говорите о чем-то конкретном?
Да, у меня был год мощнейшей творческой работы с талантливыми людьми. Как раз с начала войны. Мы все страшно испугались, что будем сейчас уничтожены. И очень сплотились, потому что сначала мы готовили проект к эвакуации, к тому, чтобы наши разработки не пропали, если нас закрывают силовым образом. А потом мы стали думать, как двигаться дальше. И очень много сделали. Это раз.
А второе — очень изменились отношения с людьми. Нужно было искать своих среди оставшихся, искать опору. И я начал это делать в совсем непривычном мне режиме большей открытости — не было сил на стандартные социальные сценарии, защитные и светские. И мне удалось пережить более интересные и глубокие чувства с другими людьми, чем мне было это привычно.
Через некоторое время после начала войны, по-моему, через несколько недель, я попал в сложную для себя штуку. Мне это вообще не очень свойственно, но я влюбился. Это редкая для меня вещь. Совсем редкая. И меня переключило.
С одной стороны, я наблюдал вот это забытое чувство любви и радовался, что я живой. А потом было угасание любви — за этим тоже интересно было наблюдать.
Но в какой-то момент у меня стала перегорать башка от того, насколько я включен в эмоциональное проживание происходящего. И мне понадобилось отстраниться, не знать, что происходит. И я достиг в этом немалого.
Я перестал читать новости. Разговоры с друзьями об эмиграции я тоже вести перестал.
Ваши друзья вас только раздражали? И за прошедшие три года вы не склонялись к тому, что все-таки нужно уехать?
Они не раздражали, и аргументы у них были нормальные. Моя главная защита на самом деле была от них такой: в какой-то момент я зарыдал, и они сдали назад.
Они поняли, что я никуда не двинусь, и стали меня просто любить без призывов к немедленным действиям. Но, честно говоря, мне, напротив, было важно, чтобы они мне давали этот сигнал, что они готовы меня поддержать, что они меня любят и ждут.
В какой-то момент все стало еще сложнее, на меня стали давить обстоятельства уже другого характера (хотя и они тоже были субподрядчиками войны). Я заболел и очутился у психиатра. И теперь я в полусне стараюсь справляться с рутинными делами.
А у вас есть в голове представление, на какие условия жизни в будущем вы подписались, решив не уезжать? Как будто сейчас, оставаясь в России, ты подписываешь сам с собой контракт: в любой момент все, что ты построил, может быть уничтожено. Жить в России — это как будто строить песочный замок на берегу моря: в любой момент его может смыть, и надо будет строить заново. Вы смирились с этим?
Как раз война пришла в тот момент, когда я построил уже очень большие замки. И для меня отъезд стал бы моим самостоятельным решением эти замки смыть и строить их заново. Поэтому я решил, что у меня хватит навыков, чтобы попытаться эти замки сохранить здесь.
При этом, естественно, у меня нет никаких гарантий, что они сохранятся. Есть только интуиция, как это происходит, как устроена сейчас жизнь и куда она может двинуть.
Если все крякнет, это будет результатом неправильно принятого мной решения [остаться]. Хотя почему неправильного? Все бы и так крякнуло — если бы я уехал.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202259745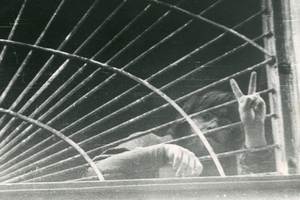 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202276376 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202242064 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 2022104737 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202262602 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202242648 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали