Кажется, существует некое общее согласие по поводу акций Петра Павленского. «Тут все понятно», — говорит Игорь Гулин. «Образец внятности и лаконичности политического искусства», — отмечает Дмитрий Волчек. «Мы все себя так чувствуем — как будто наши яйца прибиты гвоздиком к Красной площади», — резюмирует Елена Костылева. Сразу же, однако, возникает желание задать простой вопрос: а кто эти «мы»? Справедливо ли такое обобщение применительно ко всему населению страны? Скорее всего, нет: рабочим и домохозяйкам из депрессивных регионов и в голову не приходит жаловаться на то, что именно в последние три года у них отняли возможность передвигаться и говорить. Задолго до установления путинской автократии все это сделал с ними российский капитализм, зафиксировавший их — при номинальном обилии свобод — в положении фактических крепостных.
Сразу же, однако, возникает желание задать простой вопрос: а кто эти «мы»?
С месседжем Павленского солидаризуется скорее либеральная интеллигенция, класс образованных и сравнительно обеспеченных людей, болезненно переживающий «закручивание гаек» и консервативный откат вправо. Иными словами, при ближайшем рассмотрении иллюзия универсальности («мы все») оборачивается партикулярностью и интересом вполне определенной социальной группы. Только либеральный интеллигент после 2012 года действительно ощущает массу новых ограничений, (по его мнению) метафорически изображаемых Павленским в виде колючей проволоки на теле, шва на губах, гвоздя в мошонке. Какие выводы можно сделать из этой ситуации? Что художник Павленский, будучи продуктом той же либеральной среды, никак не умеет преодолеть инерцию габитуса, выйти за его рамки и, значит, остается обреченным манифестировать желания и страхи лишь небольшой социальной группы? Или, наоборот, что класс либеральной интеллигенции выступает в роли узурпатора, монополизируя право интерпретировать акции Павленского и используя эту монополию в собственных политических интересах? Каков бы ни был ответ, он заведомо уменьшает радикальный потенциал знаменитых акций, и потому нам нужно сменить, скажем так, классовый контекст: вдуматься, что может значить творчество художника не для отдельной социальной страты, но для всего «мира голодных и рабов» современной России.
Сам акцент на страдающей плоти, который так любили предшественники, воспринимается сегодня без должного аффекта и должен быть оставлен.
Если мы хотим разглядеть за акциями Павленского некое универсальное измерение, то, пожалуй, полезно будет обратить внимание на их принципиальный демократизм, проявляющийся и в сознательном отказе от оригинальности («Не было задачи кого-то удивить, придумать что-то необычное»), и в обращении к широко известным практикам заключенных (зашивание рта, приколачивание мошонки), и в использовании простейших механизмов воздействия (идентификация зрителя с акционистом). При этом следует отказаться от соблазна встраивать Павленского в старую традицию работы с телом, ярчайшим проявлением которой стали в России акции Александра Бренера, Олега Кулика, Олега Мавроматти. Мало того что по преимуществу экзистенциальная проблематика московского акционизма не очень близка Павленскому — сам акцент на страдающей плоти, который так любили предшественники, воспринимается сегодня без должного аффекта и должен быть оставлен. Возможно, более продуктивным окажется смещение интереса с медиума (тело) на (также очень демократичные) средства производства, задействованные в акциях. Что такое молоток, нитки, гвоздь, игла, проволока, нож? Простые утилитарные вещи, инструменты традиционного труда, техническая оснастка наемных рабочих вроде швеи, плотника, столяра или мясника. Сильнейшей риторической фигурой, используемой Павленским, является фигура умолчания об этих вещах. В самом деле: при весьма широкой масс-медийной освещенности акций большая часть перечисленных инструментов всегда остается в них за кадром. Соответственно за кадром остается и труд, производимый с помощью этих инструментов. Мало кто видел, как Павленский зашивает себе рот, приколачивает гвоздем мошонку, заворачивается в колючую проволоку. На каждой акции (за исключением «Отделения») зрителям предъявлялся только итог, конечный результат, готовый продукт, полученный в процессе болезненного воздействия инструментов (молоток, игла, проволока) на материал (тело). Недаром многократно отмечалась подчеркнутая статуарность, пластическая выразительность фигуры Павленского; перед нами действительно уже не акция и не перформанс — но, скорее, подобие живой скульптуры, страстно желающей о чем-то сказать.
Не здесь ли ключ к искомому универсализму, отчетливо мерцающему в акциях художника? Пряча за ширму процесс труда, Павленский показывает нам только метки, страшные и шокирующие следы, оставляемые трудовой деятельностью на каждом человеке. «Нет, труженик уже не человек, даже не мужчина или женщина: у него свой, особенный пол — рабочая сила, предназначающая его для определенной цели; он отмечен ею, как женщина отмечена своим полом (своей половой характеристикой), как негр отмечен цветом своей кожи: они тоже суть знаки, ничего, кроме знаков» (Жан Бодрийяр). Быть может, именно так следует нам понимать проект художника — как подчеркивание страшной способности труда ежедневно уродовать и калечить (попросту говоря — отмечать) людей? Цех, завод, фабрика, мастерская — нахождение здесь неизбежно связано со страданием: шить, пилить, резать, сверлить, заколачивать, растачивать и хонинговать всегда в конечном итоге приходится и по собственной плоти.
Акции Павленского непристойны не более, чем мозоли на руках слесаря или загар на лице батрака, и все его тело — лишь коллекция меток, оставляемых инструментами в процессе работы.
Кошмарный след труда на некогда красивом теле: вот что читает в акциях Павленского слепая швея, беспалый фрезеровщик, сухорукий электромонтер, искалеченный дальнобойщик, харкающий угольной чернотой кочегар — миллионы безымянных пролетариев, на чьей эксплуатации базируется мировой капитализм во всем своем блеске и великолепии. И здесь же — ответ любым консервативным критикам, осуждающим художника за нарушение общественных приличий: акции Павленского непристойны не более, чем мозоли на руках слесаря или загар на лице батрака, и все его тело — лишь коллекция меток, оставляемых инструментами в процессе работы: от быстро заросших дырочек на губах через опасную гематому на мошонке к отрезанной мочке уха они становятся все радикальнее, неустранимее. Подобно любым наемным рабочим, художник пожизненно клеймит себя собственной трудовой деятельностью, воспринимаемой им как уродование, бремя и боль. И вот неприятный вопрос: а способны ли распознать такой «месседж» очевидные бенефициары мирового порядка, креативная и талантливая интеллигенция, погруженная в неотчужденное созидание и самореализацию, счастливо живущая при некоем парадоксальном «коммунизме капитализма», как называет это Паоло Вирно?
Что, однако, делает Павленского по-настоящему современным, так это принципиальное разнообразие, прерывистость и краткосрочность тематизируемого им труда. Не секрет, что индустриальная эпоха с ее монотонным и непрерывным производством давно ушла в прошлое; триумфально шагающий по планете неолиберализм делает ставку на гибкую занятость и отказ от всяких гарантий наемной силе, превращая традиционного пролетария в представителя новой социальной страты, именуемой прекариатом. Будучи (все-таки!) одним из точнейших индикаторов Zeitgeist, мировой contemporary art неизбежно реагирует на этот неолиберальный тренд: в последние полвека художники были демиургами (Ив Кляйн), шаманами (Йозеф Бойс), бизнесменами (Энди Уорхол), юродивыми (Александр Бренер), спецназовцами (группа «Война») — теперь они все чаще начинают ощущать себя прекариями. И что, если именно тело прекария, постоянно уродуемое и помечаемое временным трудом, пытается продемонстрировать нам в своих акциях Павленский? Никаких музеев, никаких галерей, никаких гарантий, никакого постоянства. Что-то где-то зашить, что-то где-то прибить, что-то где-то отрезать, потерять на этом малую толику здоровья, получить за это малую толику всеобщего эквивалента — и снова в омут нищеты, тишины, безвестности.
Перед нами вовсе не либеральное недовольство конкретным тираном, стареющим неэффективным менеджером, которого достаточно сменить, чтобы все стало «нормально».
Перед нами — универсальная матрица, все чаще определяющая образ жизни (выживания) студентов и пенсионеров, инвалидов и осужденных, мигрантов и женщин во всем мире, эффект и стратегия, на которой выстраивает свое господство транснациональный капитализм. Тематизация, подчеркивание, проговаривание такого положения дел неизбежно влечет за собой критику современного мироустройства — и потому действительно можно говорить о «политическом активизме» в исполнении Павленского. Фокус в том, что интерпретировать эту «политичность» следует как можно шире: перед нами вовсе не либеральное недовольство конкретным тираном, стареющим неэффективным менеджером, которого достаточно сменить, чтобы все стало «нормально», — но серьезная рефлексия над самыми устоями капиталистической системы, над ее глубокой извращенностью, когда многие миллионы людей ежедневно уродуются непосильным трудом ради ничтожной горстки выгодоприобретателей.
Итак, под красочной поверхностью всеобщего консюмеризма, под напластованиями знаков роскошной жизни ворочается и тяжело дышит чудовище — подневольный труд миллионов рабочих, ничем не защищенных прекариев, говорить о которых, демонстрировать которых, упоминать о существовании которых считается моветоном. Стыдливо спрятанный, заказанный, запрещенный, этот труд дает знать о себе лишь через серии кошмарных знаков: шрамов, ожогов, культей, костылей, нервного тика, глухого кашля. Делая свою плоть пристанищем для таких знаков, Павленский дерзко демонстрирует нам исподнее мирового капитализма. Придя к этому пункту, самое главное — не покидать найденное пространство универсального, не верить позднейшей кремлевской риторике «противостояния Западу»: ведь и путинский госолигархат — лишь один (хотя и отвратительнейший) из множества изводов неолиберальной логики, настаивающей на свертывании социальных обязательств и на тотальной прекариатизации населения. Таким образом, представляя в своих акциях изувеченное тело российского прекария, Павленский на самом деле борется с режимом — но ровно настолько, насколько он борется с капиталистической системой в целом. И, кажется, только будучи рассмотренной в такой рамке, фигура Павленского может предстать действительно крупной, а его акции, уйдя от незавидной роли (чуть скандальной) арт-терапии для политически фрустрированной интеллигенции, — оказаться по-настоящему радикальным призывом к действию. Призыв этот вписан в тело художника, попавшее после «Шва» и «Туши» на страницы глянцевых журналов и в объективы телекамер; довлея оттуда зрителю, оно кажется злой пародией на либеральную идею self-made man — ведь Павленский в буквальном смысле слова сам «сделал» (с помощью инструментов вроде ножа и молотка) себя знаменитым! Увы, идея эта никогда не работала — в капиталистическом обществе усердно трудятся одни, а материальную и символическую прибыль присваивают другие. Петербургский художник, однако, умудряется совмещать обе позиции; и потому, возможно, главным увечьем, тематизируемым на поверхности его тела, оказывается вовсе не конкретный порез или гематома, но — классовый раскол par excellence.
Понравился материал? Помоги сайту!
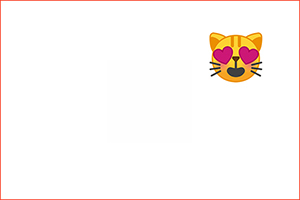 Молодая Россия
Молодая Россия






































