 Литература
ЛитератураПарсифаль в Белом доме
 © Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов
© Издательство Ивана Лимбаха / Порядок словВ проекте «Новые стихи» книжного магазина «Порядок слов» вышла книга Александра Скидана — поэта, критика, переводчика, редактора раздела «Практика» в журнале «Новое литературное обозрение». Сергей Сдобнов поговорил с Александром Скиданом о влиянии перевода, армии, «обильного чтения» и вездесущего визуального на письмо поэта. О том, что ограничивает или расширяет опыт «пишущего» и как меняется сегодня ощущение «политического».
— Саша, твоя биография: марксистский кружок в школе, поэзия, армия, оператор газовой котельной, критика, переводы, редактор отдела «Практика» в «НЛО» — расскажи о своем опыте армейской службы, что менялось в тебе — там, в условиях ограниченной свободы, множества запретов, исчезновения личного пространства и обязательной коммуникации?
— С армией, прямо скажем, мне повезло — призвали меня на три года, в ВМФ, а прослужил я в общей сложности меньше года, даже присягу не успел принять. Энцефалитный клещ укусил. Во Владивостоке их было много, со мной в госпитале на Второй речке лежало еще несколько человек с тем же диагнозом. Провалялся я там полтора месяца, легко отделался, можно сказать. Правда, в санчасти сперва поставили неверный диагноз, бронхит, и отправили через сопку за зубной пастой и полотенцем в казарму, не знаю, как я доковылял туда-обратно на свинцовых ногах; но вовремя спохватились и ночью вызвали «скорую» из госпиталя — я уже терял сознание, весь пол в палате им заблевал. Очнулся через пару дней в незнакомом месте, под капельницей, с катетером, а в приоткрытую дверь бокса из комнаты напротив Андрей Миронов поет: «Соломенная шляпка золотая, / С головки вашей ветреной слетая…» Таким, слегка водевильным, было мое возвращение.
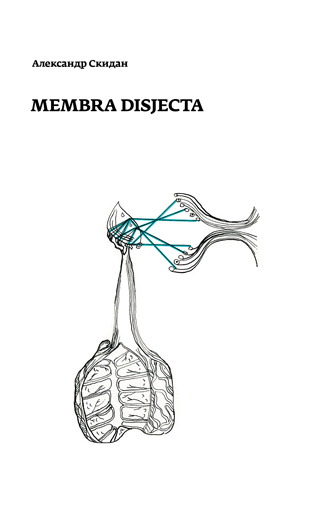 © Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов
© Издательство Ивана Лимбаха / Порядок словПовезло мне, надо сказать, еще и потому, что тогда, в 1984 году, — по крайней мере, на Тихоокеанском флоте — шла борьба с неуставными отношениями. За рукоприкладство, не говоря о членовредительстве, строго наказывали, вся наша «учебка» была увешена плакатами с изображениями соответствующих случаев и сроками за увечья, в казарме они тоже висели — с именами и званиями осужденных. Возможно, то были отголоски андроповской кампании по «возвращению к социалистической законности», не знаю, как бы там ни было, деды не лютовали, особых унижений с их стороны я не помню — так, пару раз получил по уху и шахматной доской по голове. Но после госпиталя меня уже не трогали, я был на особом положении и мог наравне со старослужащими пользоваться Ленинской комнатой — там были шахматы и «Вестники ЦК КПСС», которые я читал, потому что больше читать было нечего. Еще я там пробовал писать. Помню забавный эпизод: входит замполит, капитан-лейтенант, и просит разрешения посмотреть, что я пишу, просит вежливо, без злобы. А писал я что-то пейзажно-пастернаковское, наивно-невинное, про деревья, которые «внимают расписанью грядущих перемен, дыханье затаив». «Пройдемте, — говорит, — поговорим». Пришли в кабинет, сели. «Какие перемены вы имеете в виду?» — спрашивает. У меня челюсть отвисла. В общем, зашел разговор о гражданской поэзии. Он мне посоветовал Евтушенко почитать, особенно «Бабий Яр» хвалил, но я, размякнув от такого участия, признался, что мне больше нравится Вознесенский. А через месяц умер Черненко. У меня уже был «дембельский» билет на поезд Владивосток—Ленинград, я испугался, что из-за траура меня задержат. Ничего, выпустили. В вагон меня должен был посадить тот самый замполит, он довел меня до центра, махнул рукой в сторону вокзала и отправился по своим делам. До поезда оставалось часа полтора, я пошел в первый попавшийся книжный и купил там 800-страничную «Западноевропейскую поэзию XX века», помимо прочего прекрасного там была «Проза о Транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской». Семь суток я ехал в обратном Сандрару направлении и читал западноевропейскую поэзию, слезал с верхней полки общего вагона только для того, чтобы купить еды на станциях. В Хабаровском крае стали подсаживаться «откинувшиеся», играли в карты на деньги, раздевали друг друга и пассажиров до нитки. Один раз вышла поножовщина, докатилась аж до моего купе, да так, что высадили стекло к чертовой матери; пришлось закрыть пробоину одеялом, проводница мне потом другое дала. Она бедовая была; в соседнем вагоне ехал прапорщик, новобранцев из Владивостока в Ленинградский округ вез, видимо, в сотый уже раз; они с этой проводницей, как старые боевые товарищи, тылы друг дружке прикрывали. Я ему чем-то понравился, и он меня портвейном в ресторане угощал, а может, ему просто скучно было, не с кем о своих подвигах поговорить — за портвейном он делился опытом, как проводниц дальнего следования приступом брать.
Но, если честно, первые месяцы было страшно — постоянный недосып, муштра, голод, полуживотное существование на автопилоте и никакого уединения: все на виду, коллективно, и все бегом. Ели тоже, кажется, на бегу. Утром на толчке надо было успеть растянуть цигарку с соседом, потому что перекур когда еще будет; перекура вообще могло не быть, если командир отделения так решит. На занятиях по радиолокации — нас готовили в радисты — главное было не клевать носом. Раздавался крик: «Матрос Скидан, встать! О чем я говорил на вчерашнем занятии?» — «Виноват, товарищ старшина первой статьи, не помню». — «А как бабу свою <…>, помнишь?» Вот все примерно в таком духе. Отчасти этот опыт преломлен в «Пирсинге нижней губы». Для этого мне понадобилось оказаться по другую сторону Тихого океана, в Сан-Франциско, десятилетие спустя. И еще «Завтрак на траве» — не книга, а название — тоже оттуда. Из военкомата на Невском, 42 (в доме, где жил Тютчев) нас отвезли сначала в Дом культуры им. Фрунзе на Выборгской стороне, где осмотрели и распределили по родам войск, а оттуда — в Пулково. Офицеры пошли выправлять билеты, куда летим, не сказали. Посадили неподалеку от взлетной полосы на траву, разрешили перекусить. Трава была условная, апрельская. Мы лежали на холодной земле, что-то жевали, кто-то спал вповалку, кто-то пил припасенную водку, рядом взлетали самолеты. Это пустое время, время ожидания (приказа, пункта назначения, судьбы), запомнилось мне навсегда.
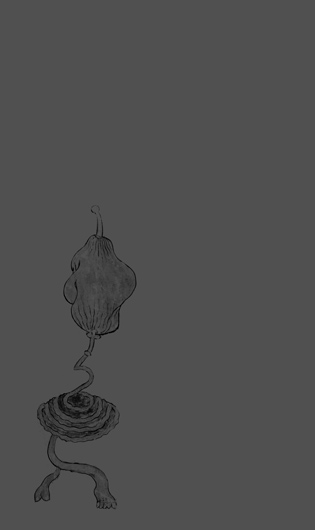 © Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов
© Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов— После армии, работы в котельной, театральной студии ты в 1994 году попал в США, где провел три месяца в рамках программы Iowa International Writing Program. Потом ты начинаешь активно переводить современную американскую литературу от Пола Боулза до Майкла Палмера. Как сейчас складываются твои отношения с переводом?
— В данный момент я ничего не перевожу. Точнее, я все время что-то перевожу, в основном арт-критику и теорию для газеты «Что делать», ну и, конечно, какие-то литературные вещи для «НЛО». Статьи я перевожу быстро, не особенно включаясь (если, конечно, речь не идет об авторах, работающих не только с концептами, но и с языком, как, например, Драган Куюнджич — осенью я перевел его статью об Анне Альчук, он пишет в дерридианском ключе, словесная ткань, лингвистические нюансы для него чрезвычайно важны), это дело техники и некоторой, скажем так, начитанности. Проза, тем более поэзия, требует куда большей концентрации, погружения. На Чарльза Олсона в общей сложности у меня ушло больше десяти лет. Впервые я перевел несколько его стихотворений для антологии «Современная американская поэзия в русских переводах», которую составляли Аркадий Драгомощенко и Вадим Месяц, она вышла в Екатеринбурге в 1996 году. Перевод был никудышный. Стихи Олсона помимо паратаксиса и разговорной лексики, отсутствующей в словарях, нашпигованы всякой всячиной, в них без комментария не разберешься; интернета тогда не было, нужные книги и справочники взять было негде (да и они не помогли бы, как я теперь понимаю), а перевод требовалось сдать довольно срочно. Ну я и лепил отсебятину. То же самое отчасти и со Сьюзен Хау. Сейчас неловко перечитывать переводы из той антологии, но это был хороший опыт, он многому меня научил. Я взял паузу, я понимал, что Олсон крут, а мои переводы ни к черту, потому что я слишком тащил в них самого себя. И постепенно, читая статьи о нем и его биографию, переписку с Робертом Крили и разные заметки, я полностью своего Олсона переделал и перевел еще несколько вещей, уже совсем по-другому, когда мы с Аркадием готовили большую публикацию Олсона для «НЛО»; перевел статью-манифест «Проективный стих», которая по сложности не уступает его же стихам, и еще кое-какие мелочи для себя. Наверное, стоит вернуться и к Сьюзен Хау, она потрясающая, и ее книга об Эмили Дикинсон потрясающая, правда, для этого нужно несколько месяцев полного покоя и сосредоточенности, а где ж их взять? Палмера я тоже переводил много лет с большими перерывами, потому что всякий раз сомневался, удалось ли ухватить интонацию; для него очень важна каденция, она идет как бы внахлест семантики, благодаря чему возникает особый контрапункт, вот его-то сложнее всего передать. Плюс тончайшая грань между иронией, абсурдистским холодком постструктуралистских языковых игр и деформаций (особенно в ранних вещах) и драматизмом, меланхолией. В иных случаях я по полгода, а то и по году давал тексту отлежаться, чтобы потом к нему вернуться и незамыленным глазом проверить: так ли, работает ли? Хорошо, когда есть такая возможность.
А вот «Когда Земля была круглой» («The World Is Round») Гертруды Стайн я перевел быстро, в один присест. Это детская повесть, безумно смешная, ребячливая, при этом почти сплошь рифмованная. Про инициацию. Перевод до сих пор не напечатан; проблема в том, что это не совсем «книжка для детей», она пронизана сексуальным подтекстом и каламбурами и написана, как водится у Стайн, без знаков препинания, то есть это довольно субверсивный текст, дети, которым он вроде бы предназначен, не в состоянии оценить всю его прелесть. Да и отсутствие знаков препинания их отпугнет (как отпугнуло издателей, которым я пытался его предлагать). Но переводил я не для печати, а для одного интернационального мультимедийного проекта, идея была очень красивая: сделать к 130-летию Стайн музыкальную радиопьесу на нескольких языках (повесть переведена на немецкий и французский), отчасти в духе культовой советской пластинки «Алиса в Стране чудес». Жаль, не выгорело — не нашли денег.
— Для поэта перевод — возможность другого языка описания — становится новым расширением, дополнительной головой, меняющей функциональность всего организма. Выбор текстов, которые переводит поэт, напоминает wish-list даров другой культуре. Как занятия переводом влияют на твое поэтическое письмо?
— Процесс перевода, разумеется, влияет, но скорее подспудно, чем напрямую. Когда я переводил «Под покровом небес» Боулза, то прочитал все его романы, рассказы и уйму литературы о нем; возможно, его сухой, отстраненный стиль побудил меня позднее отказаться от излишеств в моей собственной критической прозе. Сьюзен Хау и Олсон постфактум заставили погрузиться в контекст современной американской поэзии, в том числе различных штудий, связанных с ее осмыслением, что, безусловно, расширило мои представления о возможностях поэтического высказывания. До этого мои знания, признаться, не распространялись дальше великих модернистов 1920—1930-х (Каммингс, Уильямс, Паунд) и, до некоторой степени, битников. А вот в случае с Палмером вмешалась алеаторика. На презентации моей книги «В повторном чтении» в галерее «Борей» в 1998 году оказался Евгений Осташевский, он тогда часто наезжал в Петербург, мы подружились. И когда очередь дошла до вопросов, он спросил, читал ли я Майкла Палмера, потому что, добавил он, «ваши поэтики очень близки». Эта реплика застала меня врасплох, к тому моменту я не читал Палмера по-английски, разве что пару-тройку стихотворений в переводах Аркадия и Василия Кондратьева, других и не было (книжечка «Sun» в переводах Парщикова вышла только в 2000 году), и не могу сказать, чтобы они показались мне чем-то близкими, скорее озадачивающими. После этого разговора я, конечно, засел за Палмера в оригинале — и на долгие годы он стал моим главным собеседником, одним из главных. Впрочем, я не уверен, что наши поэтики так уж близки; хотя, например, «Схолии» я писал с оглядкой на его поэму «Солнце», там есть одна прямая цитата из «Солнца», которое, в свою очередь, все насквозь прошито перифразами и цитатами и доводит некоторые принципы «Бесплодной земли» Элиота — с конца 1980-х служившей для меня образцом в том, что касается метода, — до крайностей. «Обезглавленный ходит еще четыре часа» — это заголовок из британского таблоида Sun. Ирония в том, что я поместил эту строчку в свой текст как своего рода оммаж Палмеру, между тем, строго говоря, она принадлежит ему лишь отчасти, это своего рода found object, найденный объект, который я использую в качестве тензора, переключателя дискурсивного режима. Первым с такими тензорами в поэзии стал работать Элиот, от него все «зло» (кажется, так посчитал позднее сам же Элиот, Элиот «Четырех квартетов»).
Из цикла «Когнитивный капитализм»:
это как стена дождя
или стена новостей
когда ты мелом крошась
как если б мир покачнулся
и его еще можно было спасти
только таким образом
крошась
но мир — это и есть стена новостей
в которую вмурован твой мел.
— Каждый раздел MEMBRA DISJECTA отделяется от другого раздела изображением из персидского медицинского трактата XVШ века. При чтении я постоянно запинался на этих немного монструозных фигурах, они рассекали путь моего чтения, заставляли переключать режим чтения. В каких отношениях находятся изображение и окружающий его текст? Как сейчас ты воспринимаешь изображения, окружающие тебя каждый день или встречаемые в определенных ситуациях?
— Иллюстрации предложила Дарья Зайцева, она верстала книгу и, очевидно, по ассоциации с названием набрела на старинный персидский медицинский трактат с «разъятыми членами». Мне эта идея понравилась (хотя для меня в названии важна скорее отсылка к античной поэзии, дошедшей до нас во фрагментах, которые нуждались в реконструкции, а значит, толковании, и, разумеется, к Горацию с его disjecta membra poetae, «членами разорванного на части поэта»); в рисунках есть одновременно и телесность почти на грани непристойности, и некоторая нейтрализующая, подвешивающая ее условность, что-то от атласа, картографии. А монструозность, чудовищность — некоторым образом подоснова искусства. В модернизме она становится одним из главных мотивов. Аполлинер в статье о кубистах писал, что новейшие художники «устремлены за пределы человеческого»; тот же «антропологический сдвиг» происходит и в поэзии, и в философии 1920—1930-х, как бы предвосхищая фактичность того, что открылось в опыте Второй мировой. Хюбрис наткнулся на свою тошнотворную изнанку. Означает ли это, что можно вернуться к «гуманистическим ценностям» домодернистской парадигмы, к западноевропейскому диспозитиву рациональности, заключающему безумие и трансгрессию под замок? Едва ли, хотя соблазн велик; тот же Хайдеггер, которого вряд ли можно заподозрить в гуманизме, закончил тем, что «только Бог может нас спасти».
Если говорить о современной визуальной культуре, о перепроизводстве электронных образов, то происходит, на мой взгляд, своего рода овнешнение внутреннего: наше бессознательное, фантазмы, весь сенсориум человека как бы выносятся благодаря новым технологиям вовне. Это не просто новый режим восприятия: затронуты механизмы чувственности, темпоральности, субъективации, сама языковая способность. Как соотносится с этими изменениями поэзия? Огромный, необозримый вопрос (я подступаюсь к нему в эссе «Поэзия в эпоху тотальной коммуникации»). Очевидно, как-то соотносится, не может не соотноситься; развертывание технонауки, колонизация ею внутренних органов и способностей человека вплоть до воображения, подчинение этих способностей экономике рентабельности и т.д. — возможно, это самый серьезный вызов, с которым столкнулась поэзия как языковое искусство за всю историю своего существования. Язык ведь одновременно и материален, и является символической структурой, трансцендирующей эту материальность. Модель такой трансценденции — пение, когда голос как бы отрывается от плоти, преодолевает ее ограниченность, конечность. Поэзия давно эмансипировалась от пения, но сохранила в себе след этой модели; философы (Агамбен, например) говорят о поэзии как об актуализации возможностей «праздного», нефункционального языка (для этого нужно сначала дезактивировать его коммуникативную функцию и всякое целеполагание). Однако сегодня оба этих полюса — материальность языка и его символический потенциал, — так сказать, замыкаются друг на друге, схлопываются в плоскость экрана. Другим видам искусства в этом плане проще, они могут задействовать новые технологии, обращая их в том числе против самих себя, в обход языка (в узколингвистическом смысле), разрыхляя и раздвигая поле рефлексии и сохраняя верность «процедурам истины» или как минимум критическому, исследовательскому импульсу, что институционально вписывается в экономику contemporary art. Поэзия, если она не обращается к протезам других искусств, остается один на один с «теснотой стихового ряда», с белым листом, но это живительное одиночество, в нем есть что-то призрачное, посмертное. Универсального ответа на вызов масс-медиа не существует, лично мне ближе обратный путь — овнутрение внешнего, вживление этой проблематики и этого сенсориума в ткань самого стиха при минимализации средств.
 © Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов
© Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов— Саша, чтение MEMBRA DISJECTA для меня превратилось в странное путешествие по руинам истории и теории XX века с погружениями в соседние периоды. Когда, опустошенный частыми касаниями этих текстов, я останавливался и пытался прекратить думать, мне на ум приходили вопросы к отдельным фрагментам книги, с каждым прочитанным текстом представить ее целиком было все сложнее. Я решил, «не мудрствуя лукаво», оставить их в порядке появления на свет.
Тексты борются с «ожиданием литературы» от текста, провоцируют ее исчезновение. Наверняка ты читаешь огромные поэтические/прозаические массивы. Отодвигает ли «опыт чтения» от социальной реальности, усложняет ли коммуникацию? Как «постоянное чтение» влияет на твое «письмо» и жизнь (если для тебя эти вещи разделимы)?
— Читать действительно приходится много, чересчур много, причем чаще совсем не то, что хотелось бы. Я стараюсь как-то распределять силы, но не всегда получается. Зачастую редактура большого сложного текста или перевода настолько изматывает, что к вечеру уже не до книг. На прозу, честно говоря, почти нет времени, разве что в поездках удается улучить минутку. Из относительно новых авторов (новых — для меня) могу назвать Роберто Боланьо, которого читал в английских переводах, особенно «Чилийский ноктюрн» и «Господин Пэйн»; в последнем, если в двух словах, некто Pain, обретший после ранения на Первой мировой специфические способности, должен вылечить умирающего от неизвестной болезни Сесара Вальехо и сталкивается по ходу с препятствием в лице франкистов и тайной полиции — жуткая фантасмагория в духе «Правды о том, что случилось с мистером Вальдемаром» Эдгара По в декорациях нацистской ночи, накрывающей Европу. «Чилийский ноктюрн» примерно о том же, но уже на другом материале; молодой талантливый литератор вступает в орден иезуитов и делает головокружительную карьеру, становится ведущим критиком правого толка и поверенным Пиночета (по ночам он читает ему лекции о марксизме: врага, говорит генерал, надо знать в лицо). При этом наш герой не порывает с литературными кругами, в том числе «свободомыслящими». В какой-то момент он узнает, что в подвале дома, где устраивались литературные вечера и где собирался цвет чилийской богемы, были камеры пыток, там безостановочно, параллельно с приемами наверху, шли допросы. У героя очень хорошее воображение, оно дорисовывает ему остальное. Читать, чтобы «отвлечься», «отдохнуть», я не умею. Даже в отвлеченных философских построениях, казалось бы, далеких от злобы дня, есть «пунктум», подводное течение, затягивающее в реальность («в холодном высшем смысле», то есть — в Реальное). Собственно, вся литература, достойная этого имени, об этом. «Кризис европейских наук и трансцендентальную феноменологию» написал Софокл.
Рэнгу (совместно с Аркадием Драгомощенко)
История всеобщего бесчестья
Начинается с длинного ножа
И жары
— Искусство меняется благодаря ограничениям и борьбе с ними: так, композитор проводит время в камере, где нет звуков, и слышит собственную кровь, художник пытается понять, с чем еще он не работал. Какие ограничения доступны сегодня поэту?
— Первостепенное ограничение — не идти на поводу у напрашивающихся решений, всякий раз пытаться переписать «программу». Конечно, это сопряжено с известным риском, с отторжением. Когда чувствуешь, что материал перестает оказывать сопротивление, что тот или иной тип письма дается слишком легко, надо переходить к чему-то другому. Изобрести какую-то совершенно новую, небывалую технику или метод, построенный на формальных ограничениях, сегодня — после дадаистов, сюрреалистов, обэриутов, комбинаторной поэтики УЛИПО, алеаторики Кейджа и Джексона Маклоу — вряд ли возможно, да и не нужно. Но можно их перефункционировать (термин Брехта), подчинить другим задачам, нежели те, что имплицитно или эксплицитно решались в рамках этих направлений. Так поступила с «разрезками» Берроуза Кэти Акер. А еще раньше с открытым Уильямом Джеймсом «потоком сознания» — Гертруда Стайн, слушавшая его лекции по психологии в Университете Джона Хопкинса в конце 1890-х. (Несправедливо, что изобретение «потока сознания» приписывают единолично Джойсу; ладно Джеймс, он забыл свой зонтик на Рю де Флёрюс, 27, но Стайн не заслужила такой забывчивости. Да, многие ее вещи долго, иногда больше десятка лет, как «Становление американцев», законченное в 1911-м и вышедшее только в 1925 году, искали издателя, многие опубликованы посмертно, и тем не менее.)
— Часть твоих текстов построена с помощью техники «коллажа»; как ты относишься к принципу случайности в пространстве (текста) и где пролегают границы твоего коллажа?
— Впервые коллаж вкупе с апроприацией (присвоением, кражей) я опробовал в «романе» «Путеводитель по N» (1996). В отличие от иронического дистанцирования и десубъективации как устоявшихся эффектов этих стратегий, мне, напротив, было интересно разыграть с их помощью тотальное «влипание», дойти до психосоматического, физиологического уровня прогрессивного паралича, если угодно, привить себе безумие Ницше. Это псевдо(авто)биография, идущая вразнос. После разрыва с Лу Андреас-Саломе Ницше говорит голосами — ее, Рильке, Достоевского, Андрея Белого, Бориса Савинкова, Пруста, Набокова, Томаса Манна, Беккета, Бланшо, Бруно Шульца… И, конечно, «своими» (у него ведь не один, а множество голосов, и все так или иначе присвоенные), говорит так, как если бы продолжал писать «Ecce Homo» и после помещения в клинику — играл же он там, ни единожды, по воспоминаниям очевидцев, не сфальшивив, на рояле. Через пару лет, в «Схолиях» и «Частичных объектах», я использовал апроприацию и случайные процедуры с похожим прицелом, но уже без фиктивного нарративного ядра; все начинается с места в карьер, как если бы цепная реакция распада давно уже шла полным ходом. Лучший прозаический зачин из мне известных — первая фраза «Когда пожелаешь» Бланшо: «Поскольку подруги, с которой она жила, не оказалось дома, дверь открыла сама Юдифь». Юдифь, Саломея — вот мы и дома, центр которого везде, а окружность нигде.
— Современную поэзию часто можно представить как странно работающие механизмы, развороченные скульптуры или легкие, повисшие на ветвях. В какой области «предметности» могут оказаться твои тексты, если их материализовать?
— Наверное, в области инсталляции, не знаю, мне важен объем, volume. В любом случае что-то на грани дематериализации. Но вообще-то подобные аналогии — от лукавого, любой стоящий текст — это своего рода сценография.
— Артемий Магун в рецензии на книгу «Красное смещение» пишет: «Хайдеггер здесь, с одной стороны, высказывает главное — то, что язык есть в такой же мере слушание, в какой и говорение. И поэтические тексты, по крайней мере тексты, подобные скидановскому, суть траектории слушания, протоколы поиска — не в меньшей мере, чем попытки что-либо выразить. Неотделимость говорения и слушания сродни “отслаивающимся” планам поэтической и прозаической, выразительной и описательной речи» — слух текста связан с голосами Других, что мешает/помогает тексту слышать?
— Проблема в том, что мы не слышим самих себя (а не только других). В хороших текстах есть это ощущение межстрочного прислушивания к себе, как бы второго голоса, резонирующего, наслаивающегося на первый. Или, может быть, он-то первый и есть? Как говорил Андре Мальро, других мы слышим ушами, себя же — горлом; очень глубокое наблюдение — чтобы услышать себя, надо начать говорить.
Из цикла «Когнитивный капитализм»:
я спускался в метро, я видел — бездомные
с мешком полиэтиленовым на голове,
с мусорным кляпом во рту, подобно мумиям
в мавзолеях внутриутробного сна,
разграбленным могильникам братства,
вставлены
в стеклопакеты пренатального театра,
лентой эскалатора, уползающей
в гулкий туннель агонизирующего зрачка,
разрезаемые на равные доли неравенства
в распределении гниющих нимбов,
где колб дневного накаливания
волокна из драконьих зубов
выковыривает двужильная ночь
проводом обесточенным,
пропущенным через намоленную культю
точечной помощи гуманитарной —
creative industry с красным крестом на борту.
— Сегодня многие вещи, попадая в фокус нашего зрения, становятся значимыми, а то и искусством. Часто мы понимаем, что институт авторства обветшал, и в его стенах оказываются авторы-свидетели: существует ли для тебя анонимное искусство, и если да, то как ты относишься к нему?
— Не уверен, что понимаю, что такое «анонимное искусство». Способ ускользнуть от культурной логики позднего капитализма, от расширенного воспроизводства арт-рынка, захватывающего все новые и новые территории? Тот же Дюшан и сюрреалисты выхватывали какие-то предметы из утилитарного, бытового контекста и переносили их в институционально маркированное как эстетическое пространство. Зачастую это были бросовые предметы массового производства, не представлявшие никакой ценности и в этом смысле «анонимные». Но как только они попадали на обложку журнала или в галерею, они обретали авторство. Без подписи, легитимирующей такой трансфер, они не состоялись бы как художественные объекты. То был жест экспроприации и перекодирования, учреждавший новый тип эстетической деятельности, ставший возможным лишь в определенную эпоху, эпоху технического репродуцирования и товарного фетишизма. Само собой, в этих предметах надо было еще уметь разглядеть, вслед за Марксом, «вещь, полную причуд, метафизических тонкостей и теологических ухищрений», но на то и художники, чтобы видеть и «вестись» на эти причуды, попутно обнажая механизмы образования прибавочной (выставочной) ценности/стоимости. «Анонимное искусство» как будто подразумевает отсутствие подписи, инстанции авторствования. Но тогда оно попадает в зону неразличимости, неверифицируемости в качестве искусства. Нужен кто-то или что-то, некий механизм, который выделит и номинирует данный объект и предъявит его в соответствующем контексте. Даже если это фрагмент природной жизнедеятельности, кусок разваливающейся стены, навозная куча и т.п., они должны быть изъяты из своей органической среды обитания и перенесены в культурно маркированное пространство. Так работает фотокамера: она изымает фрагмент реальности из гомогенного континуума уже на стадии кадрирования, наложения рамки. Примерно тот же принцип действует и в случае генерированных компьютером или найденных в интернете текстов; пусть у них и нет автора в классическом понимании (восходящем к XVIII веку), но есть микшерский пульт, движок, некий дигитальный «дюшан», его указующий перст. Сходит ли этот принцип на нет с наступлением виртуальности и поголовным авторствованием в социальных сетях? Возможно. Есть ощущение кризиса перепроизводства, ощущение, что в зону неразличимости попадает уже и традиционное «авторское» искусство. Вот публика — та анонимна, да. И, кстати, жест Дюшана зеркалит эту ситуацию «восстания масс»: как публика состоит из кого угодно, так и художником/поэтом может стать первый встречный… Для модернистов предыдущего поколения — скажем, Малларме или Валери (но не для Рембо) — такая демократизация, граничащая с аномией, была бы катастрофой.
— Твои тексты уже давно ассоциируют с опытом «катастрофы» и «катастрофического знания», распада, отделения — все эти процессы происходят и на телесном/лингвистическом/эротическом уровне, постоянно заполняя ментальную карту. Как менялись твои отношения с опытом катастрофы/распада?
— С середины 1990-х мое самоощущение, в общем, не слишком изменилось. «Путеводитель по N» завершался так: «Была ли его статья “философской” в точном смысле, смысле, которому в моем случае не могут не сопротивляться кавычки? Она заканчивалось буквально ничем, он думал, что открытый финал или то, что он понимал под “открытым финалом”, оставляет ему самому шанс приблизиться под прикрытием темноты к тому, что он хотел сделать невидимым и для других, скрыть или отложить на потом, но из Москвы поступали слухи один нелепее другого, и вскоре стало ясно, что финал может быть только одним. Это уже не имело значения. Я был занят переводом пифагорейского цикла Сусанны Хау. В эти дни кто-то поджег исторический факультет, на ум приходила невеселая параллель, вместе с историческим факультетом горел философский, занимавший последние этажи того же здания. Фамилия декана вдруг стала короткой, не такой, как в далеком прошлом, когда мы срывались к нему с чужих лекций. По городу гарцевали казаки. Стук копыт вызывал род зубной боли, я подумал о том, как, должно быть, мучился раковой опухолью Фрейд, курильщик щегольских дорогих сигар, переводивший историю мопса Марии Бонапарт на немецкий: надо было выбираться из Вены. <…> Стоит осень, которую он так любил. Лестничная площадка пустеет, я не знаю, куда они исчезают, это похоже на стертую клавиатуру, где все латинские литеры заменили кириллицей. С полки берется любая книга, метод, который не следует путать с методом домино (я применяю его в другом месте). Последний этаж позволяет мне экспериментировать. Я достал ключ от чердака и разобрал выход на крышу — остается ждать, когда позвонят и закажут статью о братьях Монгольфьери, об их воздушных шарах. Son dio, ho fatto questa caricatura». Задним числом можно сказать, что «карикатура» в последней фразе отсылает не только к туринским письмам Ницше, но и к гегелевскому фарсу, каким оборачивается история.
— Сегодня каждого касается нестабильность политической ситуации в России. Чувствуешь ли ты, что сейчас возможно участие «интеллектуала» в культурной политике?
— Я бы сказал, в контрполитике, в создании альтернативных культурных и образовательных пространств и инициатив. В противном случае и впрямь придется разбирать выход на крышу.
— У тебя есть соблазнительный и опасный опыт существования в 1980-х, 1990-х, нулевых. Как менялось твое ощущение «политического» в эти промежутки?
— В восьмидесятые я сидел в котельной и прекрасно себя чувствовал, график работы — сутки через трое — позволял вдобавок ко всему заниматься театром (любительским). Потом началась перестройка. Всплески мобилизации, как в самом конце восьмидесятых — начале девяностых, сменялись периодами апатии, ступора. Причиной тому разочарования, перехват низовой протестной энергии, энергии освобождения, идеологическими аппаратами и репрессивной машиной государства. Постепенно я привык к такому маятниковому движению, хотя перепады внутреннего состояния не обязательно совпадают с «общенародными». И все же я бы назвал ключевые даты: 1989—1991-й, 1993-й, переходящий в 1994-й (расстрел Белого дома и начало первой чеченской войны), 1998-й, переходящий в 1999-й (обвал рубля и натовские бомбежки Белграда), 11 сентября 2001-го, 2003—2004-й (грузинская «революция роз» и первый украинский Майдан). Последняя сдвоенная дата особенно важна: в ответ на угрозу «оранжевых революций» в России начинается превентивная консервативная революция, плоды которой мы пожинаем сегодня. Пик приходится на 2014 год, опять же как реакция на Майдан. И внешняя, и внутренняя политика Кремля в этом плане реакционна и напоминает истерическую реакцию николаевской России на европейские революции 1848—1849 гг., так называемую весну народов. Кстати, некоторые идеологи превентивной консервации сегодня в рядах оппозиционеров; контрреволюция тоже пожирает своих детей, что, конечно, слабое утешение.
 © Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов
© Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов— Процитирую фрагмент твоего текста: «И вы берете слово насилие в голову, вы берете его в рот, даже глубже, и вы проводите с ним ночь, на лестнице, где вас никто не услышит, — и уходите оплодотворенным. Проглотить это непорочное зачатие и будет залогом, вашим первым вкладом в чудесное спасение, в чудо, какого ни в каком смысле не может быть, потому что не может быть никогда, потому что чудо противно смыслу и разуму, потому что чудо, по определению, — это насилие над разумом». Мне очень интересно твое отношение к «диалектике чуда»: всегда ли для тебя «чудесное» — это конструкт/миф?
— В переводе на современный философский язык чудо — это событие. Оно взламывает, раскалывает наличную ситуацию, текущий порядок вещей, который структурно не предусматривал каких-либо изменений, и полностью меняет расклад сил, вызывая необратимые следствия, с каковыми уже невозможно не считаться. Событие, по Бадью, — это появление «Броска игральных костей», поэтической партитуры, которую, казалось бы, ничто не предвещало: ни предыдущее творчество самого Малларме, ни внешние историко-культурные обстоятельства. На субъективном уровне событие — это метанойя, например, обращение Савла по дороге в Дамаск из гонителя первых христиан в апостола веры Павла. Пример политических Событий (с большой буквы) — Великая Французская революция, Парижская коммуна, русская революция 1917 года. Все они носили прерванный и преждевременный характер, все в какой-то момент захлебнулись или были раздавлены, не достигнув поставленных целей, но история после них пошла совершенно иным путем. В цитируемом же тексте речь скорее об экономике насилия, о диалектике чуда и насилия, запускаемой преданием о непорочном зачатии; это предание проецируется в современность, и рассматриваются его логические — брутальные — следствия. Теология поверяется не телесным низом, а, наоборот, самым что ни на есть верхом: истоком логоса, ртом.
— Как-то ты говорил, что Введенский — мыслитель кризиса языка, а Мандельштам — мыслитель события революции. Возможна ли сегодня реакция на событие?
— Выше я описал возможную реакцию на зачаточное событие, намек на событие; она была панической, истеричной. Нужна не реакция на, а само событие. Мандельштаму такое событие выпало, и он стал его мыслителем, «провиденциальным собеседником». Лучше многих других это понял Пауль Целан, в радиопередаче 19 марта 1960 года он сказал: «Революция означала для него — и в этом проявился свойственный русской мысли хилиастический оттенок — вторжение Иного, восстание нижней сферы, возвышение бренного творения — переворот чуть ли не космических масштабов. Переворот этот расшатал самые основы Земли…»
— Саша, попробуем обратиться к твоей редакторской деятельности. Мне кажется, что сегодня в России должно быть пять журналов «НЛО», а лучше десять. Какую функцию выполняет раздел «Социальная поэзия» в «НЛО»?
— Эта рубрика, «Новая социальная поэзия», досталась мне по наследству, она существовала еще до моего прихода в журнал. Поначалу название меня смущало, но я решил не предпринимать с ходу резких движений, а присмотреться к потенциальному содержанию рубрики — на практике, методом проб и ошибок. В результате, мне кажется, удалось де-факто расширить понятие социальной поэзии, да и социального как такового. Социальное несводимо к политическому, оно одновременно и шире, и в каком-то смысле ýже. Например, в последнем номере (137-м) в этой рубрике опубликована подборка Петра Разумова о «желании вещей», посещении бутиков и развалов одежды, о жизни как бесконечной примерочной на ветру, в окружении мигрантов-узбеков; примеривается на себя в том числе их удел в нашей стране. Очень нежные стихи, переплетающие темы фетишизма, нищебродского дендизма, бесприютности. Ничего пафосного, ничего, что хотя бы отдаленно напоминало обличительную гражданскую лирику; последнюю я, наверное, не стал бы печатать (разве что в деконструированном виде, а-ля Роман Осминкин). В следующем, апрельском, номере появятся, надеюсь, новые тексты Дины Гатиной, они жесткие, злые, но эта злость — нутряная, интроецированная, не ищущая алиби в «плохих объектах» вовне.
По поводу журналов. Лет десять назад на презентации одного из первых выпусков «Воздуха» в Петербурге (а может, и первого) я говорил, что таких журналов должно быть пять-шесть и выходить они должны в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владивостоке, Самаре, Новосибирске, причем у каждого должна быть своя платформа, своя эстетическая политика. За это время вне Москвы появилось лишь одно регулярное поэтически-критическое издание с отчетливой платформой — «Транслит», что уж говорить о пяти «НЛО».
 © Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов
© Издательство Ивана Лимбаха / Порядок слов— Если вспомнить Ницше, то «в каждой философии есть точка, когда на сцену выступают убеждения философа». От каких позиций ты отказывался в своей жизни?
— Я отказывался от некоторых типов стиха, в которых поднаторел к началу 1990-х и которые пользовались успехом в определенных кругах. Отказывался от усложненности и некоторой манерности своих ранних эссе с их установкой на самодостаточность языковой игры. Отказывался от религиозных поисков, вернее, эти поиски привели меня в какой-то момент к чань-буддизму: это было отличное противоядие от метафизических поползновений. Но пришлось отказаться и от буддизма, потому что, если практиковать это (анти)учение по-настоящему, нужно отрешиться от любых привязанностей, в том числе поэтических, грубо говоря, разлюбить стихи и созерцать пустоту. Отказывался от антикоммунистических взглядов; это происходило постепенно и довольно мучительно, под влиянием Беньямина, с одной стороны, и политэкономических процессов в стране, с другой. Переломным в личном плане был 1999 год — трагическая гибель Василия Кондратьева подвела черту под целой эпохой: нонконформизм, как он сложился в Ленинграде 1970—1980-х, стал безвозвратным прошлым, нужно было искать новые формы сопротивления настоящему, теперь уже капиталистическому. В том же году, в июне, в Петербурге проходила конференция, посвященная, что симптоматично, литературному и политическому авангарду XX века; там я познакомился с философом Артемием Магуном, он делал доклад о Мандельштаме и революционной темпоральности, используя понятие цезуры, заимствованное у Гёльдерлина. Это был пролог к нашей дружбе и очередному витку резкой политизации, приведшей через несколько лет к созданию группы «Что делать». Помню, в перерыве мы стояли у дверей Института истории искусств с Мишей Рыклиным и Аней Альчук, и Рыклин очень эмоционально говорил, что бомбежки Белграда — это точка невозврата, что мир больше не будет прежним и нас, «западников», ждут серьезные потрясения. Так и вышло. Я запомнил этот эпизод еще и потому, что за месяц до этого примерно о том же мы говорили на кухне с Васей Кондратьевым, он порывался отправиться в Сербию добровольцем — я не верил своим ушам (на конференции он рассказывал о «Великих прозрачных» Бретона). Наверное, были еще какие-то отказы, не столь кардинальные.
— Саша, меня волнует то, что критика (по крайней мере, в России) мало влияет на общество, в большей степени критические тексты обращены к «сообществам»; наверное, надо менять форму критики, выходить на дигитальные площадки, языки, форматы. Что можно посоветовать сегодня человеку, который пишет критические тексты?
— Тут, собственно, два разных, хотя и взаимосвязанных, вопроса. Один о производстве критического текста, его параметрах и т.д., другой — о его распространении и, в конечном счете, влиянии на общество. Попробую ответить односложно. Я бы посоветовал присмотреться к опыту Григория Дашевского, к его статьям, печатавшимся в «Коммерсанте». Это были, в общем, небольшие книжные рецензии, тем не менее Дашевскому удалось найти тонкий, выверенный баланс между непростой, подчас неподъемной для газетного формата проблематикой, которую он обсуждал, и демократичным, не перегруженным специальной терминологией языком (при отсутствии всякого заигрывания с читателем). С его взглядами и оценками можно было не соглашаться, можно было ставить под сомнение саму его позицию, подчиняющую эстетические, политические, социокультурные вопросы этическому императиву. Но выбранная им коммуникативная стратегия и те достоинство и последовательность, с какими он ее проводил, не могут не вызывать восхищения. Конечно, само издание в качестве эксклюзивной информационной площадки играло огромную роль в резонансе, какой получали его колонки: к концу 2000-х «Коммерсантъ» был чуть ли не единственной газетой, где можно было прочесть о поэтических новинках или экспериментальной прозе, при этом газету всюду можно было найти, включая интернет, наконец, там весьма неплохо платили. В 1990-е таких площадок, пусть и с более скромным гонораром, было больше, в 2000-е они стали мало-помалу сворачиваться, переформатироваться, исчезать. С их исчезновением в разреженной среде доносились лишь отдельные одинокие голоса. Очень трудно быть публичным интеллектуалом в такой ситуации, да еще на крохотном пятачке газетной рецензии; у Дашевского это получилось.
— Иногда совершенно неясно, чем закончить разговор, нет ни слов, ни желания, но меня всегда интересовало, какие из своих снов помнят люди — ты мог бы поделиться одним из них?
— Уже делился, в Фейсбуке, запись помечена тегами #dream-creative economy #precarity #pornology. «Снилось, что работаю в борделе нового типа, что-то вроде самообслуживания. Моя задача — состыковывать клиентов, которые друг друга и ублажают в самых разных конфигурациях, для этого существует какая-то нумерологическая система предпочтений. Но при этом у меня куча других дел, я постоянно отлучаюсь, подыскивая себе замену, и из-за этого возникает путаница и неразбериха с “номерками”. В конце все соскальзывает в хоррор, и я просыпаюсь с мыслью о “Капризном облаке” <Цай Минляна>, где порноиндустрия выступает моделью производственных отношений как самоэксплуатации (босса нет, все свободны)». Сон редактора, как пошутил один из проницательных комментаторов, кажется, Валерий Шубинский.
Александр Скидан. Membra disjecta. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, Порядок слов, 2016. — 212 с., илл.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Искусство
Искусство Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр Современная музыка
Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине
7 февраля 20228861 Молодая Россия
Молодая Россия Общество
ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной
7 февраля 20229300 Литература
Литература Кино
КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы
4 февраля 20228830 Современная музыка
Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе
4 февраля 20228956 Искусство
ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х
3 февраля 20228874