 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202434538
30 ноября в Москве открылась традиционная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. COLTA.RU поговорила с главами издательств — постоянных участников ярмарки, с лидерами интеллектуального книгоиздания в России.
— Про что ваш проект «Ангедония»? Слишком у вас разная, на первый взгляд, подборка книг: ГУЛАГ — «58-я», Петр Павленский, Эльфрида Елинек, Олег Кашин, Станислав Белковский, Алексей Цветков-младший, Славой Жижек...
— Нет, кажется, никаких различий — на внутреннем уровне — нет, все книжки про сегодняшний день. И про вчерашний, который напрямую с сегодняшним связан и последствия которого определяют наши стратегии. Например, сопротивление вчерашнему дню. Павленский ведь мог бы поджечь ГУЛАГ (и должен был бы), если бы это было возможно, и его язык, пусть и повторяющий множество других языков, очень четко описывает то, что с нами происходит каждый день, — отрезание ушей, зашивание рта, повреждения мошонки. Я говорю не только о консервативном повороте, но даже больше — об ощущении постоянно сужающегося пространства. И, конечно, я считаю, что Петя — прекрасный художник, слегка похожий на черную дыру, всасывающую в себя контекст.
Если более формально, то это история именно про время, а также про границы.
— Так как это авторский проект, придется задавать очень личные вопросы. Давайте начнем с разговора про насилие. Почему оно вас так волнует?
— Потому что оно стало максимально будничным. Даже с моей любовью к тому, чтобы просто лежать на диване и читать книжки, невозможно его игнорировать. Любое твое слово как бы появляется, чтобы оскорбить чьи-то чувства. Законодательство расширяется во все стороны, карательная мощь государства направляет свои репрессии во имя защиты этих самых оскорбленных чувств. Но меня гораздо больше волнует, что на этом фоне мы сами поднимаем со дна новые табу, реконструируем старые, мечтаем цензурировать с той же силой, с какой цензурируют нас. Я, например, очень часто ощущаю, как мои чувства оскорбляют; даже жаль, что оскорбляющий не может защитить меня от самого себя.
— Что вы понимаете под словом «насилие»?
— Интервью в своем роде тоже насилие — направлять, ожидать, цеплять за слова, представлять, что я думаю только то, что сказал, именно так, до конца. Но вообще речь про эксплуатацию когнитивных искажений, частное, бытовое насилие, политическое насилие — не только прямые репрессии, но сам процесс затвердевания границ, табу, правила поведения, регламенты, кодексы, униформа. Я не знаю, как правильно ответить, что такое «насилие»: ответом может быть просто цитата из учебников или отсутствие цитаты, то есть частный опыт, но все это ничего не рассказывает, а только подключается к бесконечному информационному террору.
Я думаю, этот интерес у меня со школы. Школьные годы существовали как бы специально для того, чтобы мне даже в голову не приходило когда-нибудь разговаривать с людьми.
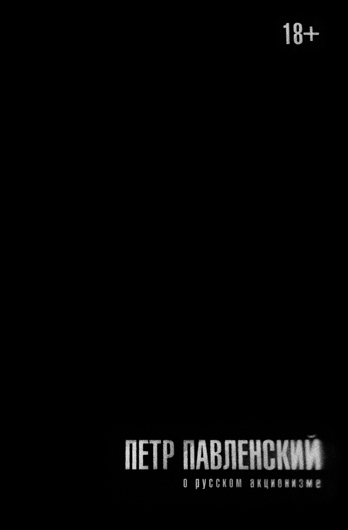 © АСТ
© АСТ— Почему? Ведь школа — это в том числе и для социализации?
— Да, как концепция. В идеале ты покидаешь ее, наполненным какими-то заранее подобранными для неясных целей идеями, чтобы никогда не задуматься о том, что является началом этих идей и в чьих интересах они работают. Правильное служение этим идеалам, наверное, можно назвать социализацией (в значении «лизать социуму»), четко регламентирующей список правильных интересов и верный круг знакомых и сексуальных партнеров. Но в моей школе был лютый хаос, примерно такой же, как у Германики, мы знали, что сексуальная свобода — это свобода умножать опыт, но не свобода его ограничивать и не свобода выбора, мы пытались найти себя самостоятельно, ежедневно гуляли по городу в поисках каких-то намеков, что же такое жизнь, и в какой-то момент скорее обнаружили, что жизни не существует. Никакой правильной, верной жизни, о которой сегодня приходится ежедневно слышать — это так отвратительно еще и потому, что вообще-то в моих детских карманах были доказательства того, что никакого регламента нет, никакого счастья за соблюдение или нарушение правил тоже нет. Так что в какой-то степени «Ангедония» — это вот такое состояние зазора между тем, о чем нам рассказывают теоретики, кующие веру в светлое будущее, и тем детским ощущением, что никакого будущего не существует.
— Ну, какое-то будущее у нас все же будет.
— Да, но я не занимаюсь попытками его предсказывать. Мы будем заниматься сексом с роботами, AI избавит нас от неврозов, 3D-принтеры будут печатать внутренние органы — но, скорее всего, из той же грустной материи, как в «Never Let Me Go». Мне больше интересно прошлое, потому что в нем и некое примирение перед трагичностью человеческих процессов, и способ избавиться от бессилия. Потому что в настоящем, на самом деле, практически ничего не происходит: мы узнаем, кто и в каких декорациях транспортирует своих прекрасных собачек через Атлантику, с чьей помощью наше настоящее спрятали в офшор, все остальное — но в широком смысле ничего другого не происходит, а эти вещи касаются нас только опосредованно, потому что мы не можем напрямую влиять на них. Некое соприкосновение с вещами, облучающими, но настолько далекими, что их можно исключительно учитывать (но ничего другого), кажется мне именно тем насилием, уважительное отношение к которому пытаются сделать нашей национальной идеей.
— На мой взгляд, «Ангедония» дает слово маргиналам и легализует их.
— Конечно, нет, потому что никаких маргиналий, никакой контркультуры больше нет. У нас больше нет никакого четкого жизненного сценария, как бы нам ни пытались рассказать обратное. Половина моих одноклассников проживают жизни, о которых Роскомнадзор запрещает рассказывать, их нюансы являются пропагандой всего, что сегодня трактуется как пропаганда, — то есть того, что можно назвать жизненным опытом в широком смысле.
Мне кажется, что именно сама попытка отреставрировать понятие маргиналии приводит к тому, что у нас все еще нет никакого консенсуса в отношении вещей, которые, на мой взгляд, вполне себе однозначны: по крайней мере, я не знаю, как можно искренне восхищаться блистательным менеджментом Сталина, находить культурное обоснование сексизму и повсеместному шеймингу людей за их идентичности. Но при этом я не считаю, что попытка освещать эти слепые зоны контркультурна в каком-то из смыслов: скорее, это проборматывание каких-то тщательно изученных вещей, и поэтому в этом проборматывании нет никакого значительного действия — это оказывается банальной необходимостью, потому что в противном случае слепая зона должна поглотить и мою жизнь, обозначить ее как несуществующую, никогда не существовавшую и все важные мне вещи вытеснить вначале за пределы законности, а потом — за пределы когда-либо происходившего. Это к тому, что я не очень представляю, как это — одновременно видеть то, что я вижу (и, думаю, каждый из нас), и читать ЖЗЛ каждого из двадцати восьми панфиловцев.
— Вы говорите, что это проборматывание тщательно изученных вещей и в то же время — слепая зона. Как это?
— Фуко уже написал о тюрьме все, что нам надо знать, даже больше, чем нам может хотеться знать, но все же для меня важна «Бутырка» Ольги Романовой как увеличение резкости и как напоминание о том, что написать о тюрьме то, что написал Фуко, недостаточно для преодоления ее существования. При этом «Бутырка» как бы не решает никаких настолько глобальных вещей, ее значение глубоко прикладное — напоминание, оповещение, предупреждение и инструкция по выживанию.
 © АСТ
© АСТ— И как «Нам здесь жить»? Как сборник Елены Костюченко?
— Да, задача у текстов Костюченко точно такая же. Причем, когда они печатаются в газете, это именно оповещение общества, а когда из этого собирается книжка — это немного иное. Очень важным симптомом России является то, что ни один текст не накладывает на реальность никаких обязательств. Костюченко не удается стать супергероем в трико, который спасает Ростов от «крокодила», в широком смысле — кажется, вообще ничего не происходит после того, как какие-то вещи разоблачаются. Может быть, они становятся инструментом, который те или иные люди используют для застывания в собственных убеждениях — взрывы возмущения, взрывы ненависти и «спасибо, Лена, мы так и знали!» — но все это — реакция на уровне слов. Это какая-то бесконечная болтовня, к которой свелась наша реальность, настолько же узкая, как лента Фейсбука, и поэтому превращение текстов в книжку — это немного нелепая попытка растянуть срок жизни сообщения, отделить его от этого мелькающего существования и перевести в то агрегатное состояние, которое, может быть, окажет на реальность хоть какое-то влияние. Но, кажется, этого также не происходит: читая утренние новости, мы узнаем, что презервативы вновь хотят запретить.
— Почему надо быть супергероем в трико или без? Вот это «спасать Россию» — очень сомнительная интенция, ее ни у Костюченко, ни у вас нет, ведь так?
— Я не знаю, что такое «спасение» в данном случае. Я пришел в издательство, чтобы переключить свою реальность: я учился в магистратуре [РГГУ], и в какой-то момент чтение Батая, Элиаде и знание подробностей биографии Алистера Кроули показали свою беспомощность. Я изучал религию на фоне слияния РПЦ и власти, абсолютно однозначной политизации пространства и четкого ощущения, будто что-то смещается, вот прямо здесь, сейчас, происходят какие-то важные процессы — мне было как минимум любопытно рассмотреть их поближе. Да, можно свести все к любопытству.
Но, мне кажется, здесь интенции могут быть точно такие же, как при застревании внутри любовной речи. Дважды, когда я испытывал сильную любовь, мне нелепо хотелось, чтобы все было хорошо (некий тоталитаризм химических процессов); так же, мне кажется, когда ты видишь ад, ты чувствуешь внутреннее принуждение что-то сделать, чтобы ад закончился. Это может звучать очень глупым, очень простым, но я уверен, что у любого действия есть хотя бы предполагаемые последствия, и, конечно, у журналистики это — в большинстве случаев — Уотергейт.
— Я думала об этом. При определенном ракурсе все книги серии — это вообще про отношения и про любовь к людям в том числе.
— И про насилие, про видимые и невидимые способы увечить, обесценивать, ущемлять. Любовь — это процесс болезненного невмешательства, скажем так, это отказ от аннексии в свою пользу. Насилие же — это аннексировать или иногда, наоборот, находить красивые объяснения для оправдания невмешательства.
Я думаю, что «58-я. Неизъятое» очень близко подходит к этому вопросу: под одной обложкой собраны истории тех, кого отправили на смерть, и тех, кого отправили убивать, и их истории оказываются буквально историей одного и того же процесса — отчуждения от собственной воли, собственного тела и мотивов. Это про то, как государственная машина объективирует человека, вытесняет из него все человеческое; в первую очередь, конечно, такая машина пытается вытеснить из человека любовь как пересечение идентичности и свободы.
 © АСТ
© АСТ— Кажется, это вот было как раз про Елинек.
— Мне не хотелось бы сводить Елинек исключительно к содержанию, для меня ее ошеломляющий эффект — в первую очередь, в нахождении верной речи для описания того, о чем мы пытаемся с вами говорить. Как видите, мы не очень справляемся с нахождением верной последовательности слов для описания даже собственного опыта, а Елинек — да. Когда-то ее книги объяснили мне, как именно люди делают «это» с другими людьми, а сейчас я очень часто узнаю в окружающей реальности какие-то прописанные ей процессы. Если ты прислушаешься, за соседним столом обсуждают, как наиболее эффективно накачать себе задницу, чтобы превратиться в более фешенебельный товар, а затем — как продвинуть этот товар через таргетированную рекламу в Инстаграме, а затем — как монетизировать свою женственность. Но даже если убрать «монетизацию», кажется, все вокруг превращено в обмен объективациями и постоянным «ты должен преодолеть!», о чем уже все рассказал в «Насте» Сорокин. Очень просто думать, что насилие спускается сверху, что это такая осмысленная директива, но его горизонтальное движение кажется мне гораздо более страшным.
— Почему вы говорите об объективации и преодолении как о синонимичных вещах?
— Я говорю не о преодолении, а о внешнем принуждении преодолевать, о лозунгах — «я преодолел, и ты преодолевай». А любой регламент, конечно, является орудием объективации. Постановка «все должны преодолеть» только стилистически отличается от «все должны ходить в церковь» или «нормальные отношения — только мальчик+девочка»: это звучит очень глупо в XXI веке, когда любая гегемония может быть разрушена банальным выходом в интернет, который включает в себя бесконечное количество жизненных сценариев. В этом плане роль издателя — больше не роль самопровозглашенного гегемона, его мнение становится максимально частным, и издание тех или иных книг — процессом солидаризации. Так как мы существуем в пространстве возможностей, это можно представить как добровольное переливание крови в пользу тех, кому, на наш взгляд, нужнее.
— А вы бы хотели быть гегемоном? Скажем, в другой жизни.
— В другой жизни я бы хотел быть врачом.
— Процесс солидаризации, о котором вы говорите, — это мечта о диалоге?
— Отчасти.
— Тогда что это? Имитация не-одиночества? Или все же это о том, чтобы начать разговор, а не войну в комментариях?
— Я давно не верю в не-одиночество. Как я говорил, у меня слишком громкая память о детстве, которое дало мне избыточное знание о человеческих отношениях. Но диалог — это не взаимоотношения в прямом смысле, это даже что-то обратное им: это достаточно взвешенный разговор об острых вопросах, исключающий личную коммуникацию (в идеале), — и тогда да, это то, чего мне очень хочется. Открытости к разговору без интервенции и насилия. Это попытка получить ясность.
— В своей издательской деятельности вы говорите о «взвешенном разговоре», а ваш собственный роман «Нежность к мертвым» — это мечта об отношениях. Вы разделяете посылы того, что издаете, и того, о чем сами пишете?
— Вроде бы «Нежность» про то, что отношения — иногда насилие, или про то, что после какого-то насилия ни о каких отношениях не может идти и речи. Про то, что однажды обстоятельства могут сплетаться так, что ты уже не находишь способа объяснить самого себя другому человеку, а то, что принято называть отношениями, в первую очередь про методики отдачи этого внутреннего материала. Мы умеем отдавать то, что нам не принадлежит, но некоторые вещи из поля нашей собственности — например, травмы — неотчуждаемы.
Но нет, я не разделяю, мотивы у меня одинаково исследовательские.
— Кажется, об этом Станислав Львовский писал в сопроводительном письме, номинировав вас на Премию Драгомощенко?
— Он писал о точке пересечения писательских и издательских интересов, рассматривая их как разные грани одного процесса. Но я все же считаю, что никаких граней здесь нет, просто чужой текст так и остается чужим. Я стараюсь минимально впутывать и/или впутываться. Думаю, так же, как и все люди, я просто рассматриваю реальность доступными средствами.
— Но другие при этом кажутся довольными и точно не занимаются протестом.
— Я не думаю, что занимаюсь протестом, уж точно не в буквальном смысле. Я скорее просто на стороне тех, кто находит в себе силы на протест.
Может быть, мы все же немного поговорим о книжках?
— Хорошо, а для кого вы их издаете? Можно ли вообще предсказать, кто будет читать ту или иную книгу серии?
— Я не формулирую, потому что любое предположение здесь будет ошибочным. Возможно, единственным специальным читателем мог бы выступать только я сам, но все же большая часть книг — нон-фикшн, а значит, их чтение во многом функционально. А вот почему некоторых людей волнует ГУЛАГ, некоторых — гендерное насилие, а других (а возможно, и этих же) — тексты Костюченко или Петр Павленский — это кажется мне невозможным вопросом. У нас есть ответ, связанный с политизацией коммуникации, есть ежедневная повестка и, в конце концов, само окружающее пространство, но все же это — только часть ответа, и я не уверен, что готов даже за самого себя вслух отвечать, почему эти вещи кажутся мне настолько важными и почему я сталкиваю себя с ними раз за разом.
— Сегодня документальность — это скорее альтернативная реальность, идущая вразрез с тем, что нам дается как единственно истинный вариант действительности. Как здесь можно говорить про фикшн и нон-фикшн?
— Формально — на каких полках будут стоять те или иные книги. Еще более формально — нон-фикшном можно считать то, что читатель готов читать как нон-фикшн. Так я читаю Пруста, для меня это повествование о Прусте, а не о Сване и Альбертине. Мы ведь вообще почти не имеем дела с фактами, только с представлениями, искажениями, восприятиями. Вроде бы очевидно, что любой мемуар — это не про что, где и когда, а про то, как может быть репрезентировано это что, где и когда, это работа с вариациями — разве удовольствие не в этом? Я всегда читал это как историю времени сквозь человека. Все же именно время, а точнее, политика, четко связанная с тем или иным временем, выбирает за человека речь.
Я не знаю, можем ли мы придумать что-то, что хотя бы раз не было совершено, не будет совершено или не могло бы быть совершено в той или иной форме; может ли фикшн быть фикшном и не более того. Чтобы думать об альтернативной реальности, надо найти слова для описания этой. У меня этих слов нет.
 © АСТ
© АСТ— Над чем вы работаете сейчас?
— Я надеюсь, в следующем году Алла Смирнова закончит перевод «Влюбленного пленника» Жене — книжки, с которой для меня в издательском смысле Жене и начался и ради которой издавались «Богоматерь цветов» и «Кэрель». Уже почти готова очень смешная «Трилогия Лорда Хоррора» Дэвида Бриттона, критичная для меня лично «божественная комедия» про XX век, который, конечно, очень похож на ад со всеми рвами, драными ранами и поиском золотого трона Люцифера.
Мы давно готовим большую ретроспективную книгу с «Театром.doc» о проблематике документальности, аберрациях памяти, в широком смысле ровно о том, что я только что говорил про фикшн, который при определенном взгляде становится нон-фикшном. Елена Костюченко пишет книгу о столкновении хантов и лесных ненцев с колонизацией индустриальным обществом, про нефть, нефтяников и старых богов, у которых нефть вместо крови.
Зимой выйдет большая поэтическая книга Марии Степановой, которая, хоть и называется «Против лирики», для меня, наоборот, — сплошная недоступная лирика. Несколько лет я плотно сосуществую с этими стихами как с чем-то самым далеким от меня, самым неясным по регистру, то есть, с одной стороны, далеким до непонятности, неразличимости в себе подобных слов, а с другой — это так далеко, что представляется мне вот таким последним фронтиром, где ангедония (во всех смыслах) может закончиться, имеет для этого ресурс, возможность, даже какую-то надежду на завершение — без облегчения, потому что, скорее всего, это тяжелое знание.
— Почему стихи?
— Потому что стихи сегодня более чувствительны к переменам, скорость смены нюансов, правил игры превосходит возможности прозы: ее задача — скорее, склеивать, скреплять расколотую реальность, закреплять правила и закономерности. Мне кажется, у нас нет той речи, которая могла бы в прозу вместить настоящее, не хватает каких-то данных, нюансов, просто нет тех запчастей, из которых этот большой роман о настоящем — как Янн или Манн о двадцатом веке — мог бы состоять.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202434538 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202432633 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202435125 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202440602 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202441174 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202443532 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202444333 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202449981 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202449401 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202443588 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials