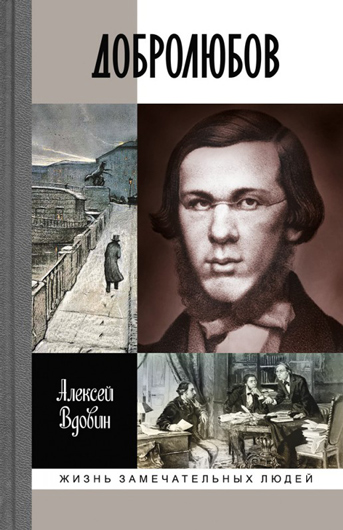Движение революционных демократов-поповичей не имеет единой формулы до сих пор. В парижской эмиграции Бердяев, Георгий Федотов и Флоровский описывали его как атеистическую секту внутри православия, как мистическое чаяние равенства и экстатическое служение народу. Западные слависты, занимающиеся этим периодом, прежде всего Ирина Паперно и Лора Манчестер, напротив, видят в Добролюбове и Чернышевском прагматиков, прогрессистов, использующих религиозную образность в пропагандистских целях. Эти две позиции сходятся лишь в том, что за разночинцами-поповичами признается умение выстраивать образ себя по готовым житийным лекалам, а пламенные призывы основывать на библейской мессианской символике.
Да, революционные демократы и наследовали радикализму русского сектантства, и до неузнаваемости упрощали или профанировали мистические поиски братства русской аристократией (Добролюбов достаточно читал Жуковского в детстве), и пытались превратить свое ненавистное поповское происхождение в преимущество знания народной жизни и пафос интеллектуализма в противовес дворянским наслаждениям. Все эти линии в развитии русской интеллектуальной культуры слишком очевидны, чтобы не говорить о них, даже если они были не прямыми, а опосредованными поэзией или бытовым опытом. Кроме того, обостренное внимание к художественной литературе этого круга могло объясняться просто, и жаль, что книга Алексея Вдовина этого не коснулась, — протоиерей Александр Добролюбов, духовник Мельникова-Печерского, и протоиерей Гавриил Чернышевский стояли на страже православия против старообрядчества: старообрядцы до сих пор хранят память о том, как протоиерей Гавриил закрывал и грабил их скиты. Стремление уйти в мир литературы — еще и отталкивание от мира отцов, где литературные знания служат только правам цензуры: демократическая критика стремилась показать, как литература может преодолевать цензуру, вообще может взламывать готовую систему ожиданий и внутренних запретов, становясь самой жизнью.
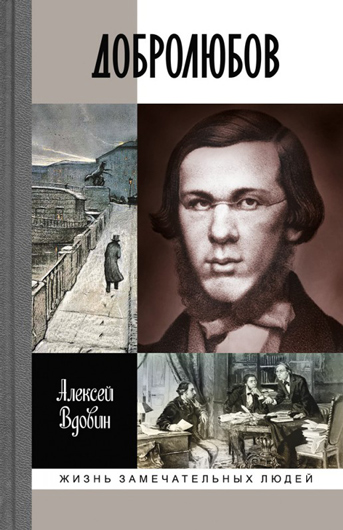 © Молодая гвардия, 2017
© Молодая гвардия, 2017В книге Вдовина Добролюбов — критик поневоле. Он мог бы при ином повороте событий стать профессором и преемником своего учителя И.И. Срезневского, мог бы дослужиться до директора гимназии. Он вполне умел еще на студенческой скамье находить покровителей, которые и позволили ему остаться в Петербурге, а не попасть по распределению в Тверь на восемь лет в счет бесплатного обучения. Он позволял себе, став известным критиком, снисходительно и сухо отвечать дочери князя Дондукова-Корсакова на письмо в защиту обломовщины. Он умудрялся нескончаемо занимать деньги из кассы «Современника», более того, от его имени деньги из кассы без особого контроля получали его пассии.
Можно было бы предполагать в юноше, ставшем сотрудником самого доходного издания, деловую хватку, но как раз умения вести дела у него не было: вместо этого в нем были кипучая работоспособность, умение быстро схватывать содержание множества книг, видеть, к каким результатам приведет какая идея. Такое многообещание, умение видеть размах идей, навык прослеживать нарастающие тенденции общественной жизни, сила горячего убеждения и заставляли окружающих доверять ему собственные деньги и собственные мнения.
Вдовин реконструирует важнейшие эпизоды жизни Добролюбова, которые ушли бы из внимания другого биографа, сосредоточенного на перипетиях общественной или литературной борьбы. Это жизнь Добролюбова-подростка, анализирующего все свои душевные движения и порывы в неуклюжих, но едва ли не каждодневных стихах, также анализирующего аргументацию и ценность прочитанных книг в сводных таблицах. И это жизнь Добролюбова последнего года, времени итальянской поездки, когда он выступал в «Современнике» как международный политический обозреватель Рисорджименто, выяснявший, почему народные волнения не переходят в революционные действия и каким образом правительство держит в подчинении массы, несмотря на отсутствие единства во мнениях даже в высших кругах. Неужели дело только во влиянии Франции, передавшей Италии технологии политического монополизма? Добролюбов пытался исследовать, как вообще работают мнения, при каких условиях они радикализуются. Он не смог бы стать ни социальным мыслителем, ни государственным мужем; но он был типичным молодым ученым, наблюдающим за социальной тканью, за политическим воображением, за структурой намерений и страхом дополнительных рисков. Хотя, конечно, его научная карьера в Европе была исключена: Добролюбов ни при каких условиях не умудрился бы стать прото-Зиммелем или даже прото-Ломброзо не только из-за плохого знания языков, но и из-за неумения создавать институции — он даже не мог создать семью.
А юный Добролюбов, ведший дневник чтения, читавший днем и ночью, — то был типичный эрудит, который, может быть, при других условиях стал бы неплохим романтическим поэтом вроде Леопарди или Клеменса Брентано. Вдовин показывает, что позитивизм Добролюбова, его вера в науку, служение потребностям жизни, реализм духа, воспетый настоящий день — это проекции его внутренней душевной работы в стремлении подростка найти воображаемый центр раздирающих его стремлений. Если гнетущая тоска не мирится с жаждой служения людям, если мечта о лучшем мире не может объяснить, как улучшить мир в себе и вокруг себя, если требование честности перед собой никак не совместимо с робостью перед непознаваемым миром, то общим знаменателем здесь и будет Реальность, принятая без оговорок, как причастие.
Вдовин точно указывает, что пропаганда заслуг «новых людей» в сравнении со старшими поколениями освободительного движения, которая навсегда поссорила Добролюбова с Герценом (хрестоматийная статья «Very dangerous») и с Тургеневым (как доказывает Вдовин, причиной разрыва с Тургеневым стала не критика романа «Накануне», а выпад Чернышевского в рецензии на Натаниэля Готорна, где мимоходом Чернышевский обвинил русского романиста в том, что Рудин — карикатура, созданная по советам великосветских читателей), — вовсе не часть внутреннего убеждения Добролюбова. Напротив, частным образом Добролюбов постоянно сетовал, что старшие поколения были поколениями сильных, едва ли не безумных, страстей, настоящих, хотя и неосмотрительных, порывов, тогда как новое поколение лениво, бездеятельно, тенью проходит мимо настоящей истории. Хотя и первое, и второе описания в этих рассуждениях состоят из романтических топосов, важно, что Добролюбов стремился противопоставить старой топике душевных мотиваций социального дела собственную топику, в которой «новые люди» умеют властвовать и над внутренними, и над политическими страстями.
Подспорьем в таком овладении страстями и страстями стал для Добролюбова Гейне, и Вдовин демонстрирует, как парадоксалист Гейне превращался в учителя чувства: в наставника, который учит, когда можно быть смешным в любви, когда можно быть экзальтированным в чувстве, а когда — сильным в бесчувственности. В книге Вдовина реконструируется страница, предшествующая странице русского нигилизма, — понимание чувства как части социальной инженерии. Умение правильно чувствовать, умение терять голову, умение быть в чем-то нелепым — это такая же необходимая часть работы с реальностью, как вдохновение в инженерном деле или управлении. Добролюбов мог бы быть назван «социальным либертином», если иметь в виду, что либертинаж — это именно эксперимент над превращением личного эротического опыта в безличный опыт исследования границ «человеческого».
Когда Добролюбов задолго до Есенина читал стихи проституткам и сватался к ним, не жалея своих высоких гонораров, — то это не обстоятельство только его личных вкусов, но часть программы «нового человека», который, возвысившись над страстями, превратив собственные и чужие страсти в инструменты достижения целей, может поэтому свысока смотреть на любые житейские обстоятельства, в том числе бытовые обстоятельства проституток: ведь такой владыка страстей думает в два счета управиться с любыми своими и чужими обстоятельствами. Чужие характеры и характерность событий для него — только подробности, мелкие нюансы на теле реальной жизни, и, исправляя несправедливости, новый человек дает волю страстям, чтобы оказаться жизненнее самой жизни. Парижская возлюбленная откровенно водила нашего героя за нос; но ему было важнее, что он может властвовать как бы над всей ситуацией, быть своим в Петербурге и Париже.
Можно было бы описать позицию Добролюбова как новый гностицизм, как сектантство не в смысле экстатического утопизма, но в смысле доверия к разуму страстей и к премудрости любых здравых убеждений. Но Вдовину важнее опровергнуть миф о Добролюбове как об аскете, ставшем беспристрастным критиком. Добролюбов — не критик, не аскет, не поэт и не общественный деятель. Кто же он в итоге? Вероятно, величайший русский естествоиспытатель своей психики, проверивший, можно ли работать без сна, писать на любые темы, переживать каждое сказанное тобой слово и при этом бесконечно редактировать чужие слова. Он стал сам себе подопытным растением и бурной средой — в этом ирония и победа этого странного, признаться, малоприятного, но при этом по-прежнему удивительного человека.
Мы можем понимать по-разному дело Добролюбова: как набор психотехник либертинажа для разрыва со своей патриархальной средой, как попытку индустриализации мысли и чувства, как ранний извод нигилизма, еще не приведенного в систему, или как честность до нудной скрупулезности и нервной придирчивости. Проблема в том, что все эти понимания будут одинаково верны, а как работают эти понимания — и объясняет книга Алексея Вдовина.
Алексей Вдовин. Добролюбов: разночинец между духом и плотью. — М.: Молодая гвардия, 2017 (Жизнь замечательных людей). 298 с.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизия