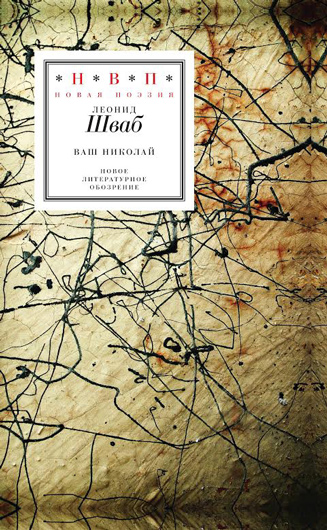— Мы с тобой столько говорили о том, что новый корпус текстов, вошедших в книгу «Ваш Николай», — это не «Поверить в ботанику», а другая, отдельная, следующая история. Ты можешь про этот новый корпус рассказать? Про новую книгу как про не-«Ботанику» для начала?
— Я попробую. Во-первых, я там начинаю открываться все-таки. То есть то замкнутое пространство, которое было в «Ботанике», — оно, к счастью или не к счастью, уходит. Причем не всегда мне это нравится. Не по ощущениям, а по звуку не всегда нравится. «Николай» — это логическое завершение «Ботаники», дальше — без меня.
— Это открывание чему? Чтобы впускать в себя что?
— Это, наоборот, выпускать на волю личные страсти. Допускать личные эмоции в текстах. Этого не было раньше. Вернее, все же было, но на каких-то очень-очень дальних полях.
«Ботаника» честнее. «Ботаника» — честная книжка. А здесь… у меня довольно много сомнений. «Ботаника» писалась без читателя. Т.е. речь шла о герметичном кубике. Здесь я все же читателя как-то чувствовал за спиной. И это совершенно для меня новое ощущение, очень непривычное. Я уверен, что в текстах это тоже есть.
— Ты говоришь сейчас две вещи, которые в каноническом разговоре о поэзии несовместимы. Эти две вещи звучат так: «в новую книгу я позволил себе впустить личные эмоции» и «прежняя книга была более честной». В каноническом разговоре о поэзии «честная книга» — это книга, в которой автор честно говорит о себе. Для тебя слово «честная» явно значит нечто совсем иное.
— Мне даже как-то странно говорить это вслух, но я скажу: на бумаге не спрячешься. На бумаге спрятаться невозможно, ты открыт полностью, буквально целиком. Тебя видно целиком. Поэтому, когда я говорю о герметичности, я говорю несколько все же о другом. Это герметичность конструкции, что ли. Это… Чем меньше автора видно — тем яснее звук. Автор мешает. Я говорю опять-таки только про себя. Автор мешает, он путается под ногами. Как турист с пишущей машинкой у братьев Коэн.
И когда автор выходит на первый план или меняет дальний план на ближний — возникает огромнейший соблазн, избежать которого, наверное, очень трудно. Бряцать на неких терапевтических струнах. Т.е. устраивать себе сеансы терапии с помощью художественного высказывания. В моей системе это неприемлемо. Категорически. Я знаю, что у других это работает. Мне — нельзя. Потому что свои личные перекосы нужно лечить в других местах. Сходи на бульвар, выпей анисовой у Эфи, иди считать желтоухих скворцов в парке Независимости, потом вернешься, и все образуется. Но не надо открывать медицинские учреждения внутри высказывания. Еще раз: я говорю только про себя. Т.е. открытые эмоции — это не я. Они у меня в новой книжке есть и только мешают, по-моему. Только мешают.
Я пытался представить, что никакой новой книжки нет и осталась только одна «Ботаника». И, представь, со спокойной такой уверенностью сам себе могу сказать, что больше ничего и не надо. Да, больше ничего и не скажешь. Даже если там будут новые звуки. В принципе, ты свои пространства, вернее, планету уже показал. Ты можешь беспрестанно фотографировать с разных сторон. Но планета уже существует.
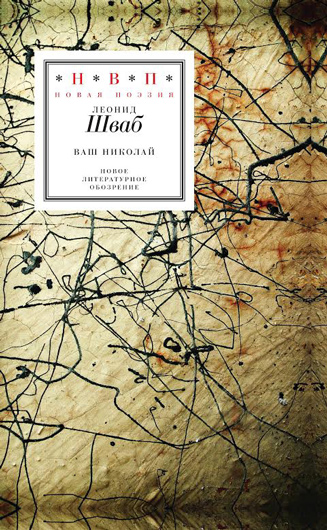 © Новое литературное обозрение
© Новое литературное обозрение— За фразой «ты свою планету уже показал» стоит некое целеполагание: именно это и было целью, именно это и было важно. Почему?
— Это единственное поле, где я по-настоящему отвечаю за свое высказывание. На этой планете я отвечаю за каждую травинку.
— Тогда как начались эти новые тексты из «Николая»? Понадобилось показать другой ракурс той же планеты? Возникла другая планета?
— Была иллюзия, что я могу переместиться в другие дали. Я не думаю, что это произошло. Я думаю, что это та же самая твердь. С другой стороны, поскольку мы говорим об очень небольшом объеме — я не жалею о том, что было сделано после «Ботаники». Но это не новая книга. Нельзя сказать, что это еще одна «Ботаника», но, в общем, соседний огород. Это, если упрощая, грузовик с прицепом. Это не еще один грузовик.
Может быть, будет уместно разместить здесь условное предисловие от автора, которое в новую книжку не попало по причинам скорее эстетическим.
«Вопрос: кто ты и что ты сделал? Ответ: я был один и сделал все что мог. Блажен, кто может так ответить, не отводя глаз. Я не могу.
Я начинал в эпоху социальных потрясений, сегодня мы пришли к временам этических катастроф. Писать трудно всегда, “Серапионовы братья” не обманули.
Старый советский фильм “Ошибка резидента”, разговор у газетного киоска:
— “Правдочку” не дадите мне?
— А пожалуйста, три копеечки.
Мидраш Берейшит-Раба, глава 22: “Добра злодею не делай, и с тобой зла не приключится”.
Между правдочкой задешево и сегодняшним днем расстояние оказалось узеньким и коротким.
В великой формуле жизни Венедикта Ерофеева (“Все на свете должно происходить медленно и неправильно...”) временная составляющая поменяла полюс, медленно стало быстро, очень быстро. Господи, да будет на все воля Твоя.
Лето,2015 г.».
— Возникает ужасно интересный вопрос о голосе, который мы в этой книге слышим. Если книга — «это не исповедь, это не терапия, это не игра в искренность с читателем; я просто показываю свою планету», то кто он — этот обитатель планеты? Чей голос с нами говорит? Это демиург? Это одинокий житель? Это кто?
— Нет, вряд ли демиург. Может быть, отдельный житель — это не так уж и плохо. Скорее все-таки наблюдатель. Чем старше — тем лучше я умею это делать. Наверное, наблюдатель.
— Ботаник-исследователь?
— Вот исследователь — еще более точное слово. [Станислав] Львовский когда-то вскользь говорил об этом, и я подумал, что он прав.
— У исследователя есть цель исследования. Что исследует этот исследователь, что он показывает нам?
— Очень хороший вопрос, а ответ буквально в одном слове: породниться. С желтоухим скворцом, с бутылочным деревом, со скамейкой на бульваре. С кем-нибудь живым. Это одушевленные предметы и неодушевленные. С человеком. В первую очередь с человеком, конечно. То есть чувство родства важнее текста.
— Бывает чувство, что удалось породниться? С незнакомыми людьми — например, на публичных чтениях (ты читаешь очень редко, но читаешь)?
— Да. Но очень редко. Очень редко.
— У меня все время впечатление, что твое «породниться» — это совсем не то же самое, что «сблизиться».
— Нет, «сблизиться» — неточно, совсем не то. Породниться — это восторг. Это натуральное, химически чистое чувство восторга. Когда возникает чувство родства. Это удивительно.
— Тогда бывает ли насыщение родством?
— Ну вот как раз сейчас оно. Только не насыщение, а именно завершенность.
Можно писать, а можно дописывать. После того как я сдал макет этой книжки — у меня все же остается ощущение, что я могу что-то еще добавить. Я не чувствую, что я больше ничего не хочу делать. Но есть колоссальная разница между тем, чтобы высказываться, и тем, чтобы договаривать вдогонку. Вот это знание у меня есть, если мы говорим о завершенности.
Сходи на бульвар, выпей анисовой у Эфи, иди считать желтоухих скворцов в парке Независимости, потом вернешься, и все образуется.
— Оно хорошее?
— Оно не тревожное. Оно спокойное. Оно взрослое.
— То, где вышла книжка, для этого ощущения родства важно? Я имею в виду книжную серию как некоторый способ очерчивать круг.
— Да, да. Ну, это критически важный для меня круг. Люди, которых я, как правило, знаю и люблю. Я столько лет существовал внутри себя, что, когда появился мой круг, с которым я, может быть, не так часто вижусь, мне стало бесконечно важно знать, что я не один.
— Что значит в этом смысле «быть не одному»?
— Сверка по компасу, сверка координат. Это я понял после одного очень важного для меня разговора с Марией Степановой. Вот север — это север, да. А это восток, отлично. Значит, на уровне платформы ничего не изменилось. Но не только, конечно. Это то самое родство, к которому я все время возвращаюсь. Это то самое родство, без которого существование настолько пресное и... Да и бессмысленное, наверное.
— Для чего сверяться? Сверяться — это же пытаться убедиться в чем-нибудь. В чем? В том, что мир не распался? В том, что ты не сошел с ума?
— Не так высокопарно. Я бы ответил технически. Что на уровне операционной системы каких-то кардинальных изменений не произошло. То есть приложения могут просто распадаться на части, но платформа держится.
— Я полагаю при этом, что не со всеми людьми, с которыми родство возможно на уровне их текстов, оказывается возможным родство человеческое — и наоборот. Что для тебя делает человека своим?
— Ну, не тексты. Хотя иногда и тексты тоже. Свой — это тот, с кем я могу разговаривать и размышлять. Потому что размышлять одному и размышлять в беседе — это совершенно разные дистанции. Потом, я размышлятель, в общем-то, скверный, поэтому, когда со своим собеседником ты можешь выйти в какие-то совершенно неожиданные сады, ты понимаешь, что одному в таких садах не гулять. Никак.
— Кто в эти последние годы оказался таким человеком?
— Если о сочинителях — Федя [Сваровский], Сеня [Ровинский], ты, Маша [Степанова], [Дмитрий] Дейч, Андрей [Сен-Сеньков], Юра [Станислав Львовский]. Я к понятию «товарищ» отношусь трепетно, для меня это очень важное слово. И чтения я стараюсь устраивать с товарищами. С Машей, Федей, Дейчем…
— Что для тебя такое — хорошо читать, хорошо выступить? Ты читаешь не очень часто и не очень много, и отношения с этим жанром у тебя не очень простые. Когда ты это все-таки делаешь — это про что?
— Это про звук. Это только про звук. Иногда появляется новый звук, которого ты не видел на бумаге. Это важный вопрос, кстати, про чтение и звук. С другой стороны, ничто не может сравниться с чувством «вот оно наконец-то закончилось».
— Восторг оттого, что оно закончилось, — стыдно на людях-то?
— Стыдно за то, что ты вышел и сделал плохо то, что мог бы сделать хорошо. Озвучить то, что сочинил. И если звук оказался блеклым и никакого отношения не имел к тому, что ты написал, — зачем тогда выходил?
— Кстати, о слове «ботаника» и исследователе-ботанике: я много думаю о том, насколько в твоих текстах важна механика. Не в плохом смысле «механистичности», а в смысле пристального внимания к моторике, к тому, как работают вещи и что заставляет их работать. «Механика планеты» — по аналогии с «механикой космического корабля», например.
— Слово «механика» здесь очень к месту. И совершенно для моих координат не обидное. Именно механика, не электроника. В высказывании какие-то моменты инженерного строительства, безусловно, присутствуют, и я их не стыжусь.
— Почему вдруг оправдательная нота?
— Ну, потому что… Мы говорим о высоком искусстве, мы говорим о художественном высказывании. И вдруг инженер, который примеряет инструмент.
— Мне все время кажется, что твои тексты и их автор пытаются предъявить нам последовательности событий не для того, чтобы рассказать историю, а для того, чтобы обнажить механизмы, заставляющие истории возникать на этой планете, складываться.
— Я не вижу ничего плохого в том, чтобы рассказать историю. Мы видим, как Робинзон на плоту перевозит с разбитого корабля уцелевшее имущество. Перечень предметов вызывает неподдельный интерес, живой человек строит мир почти с нуля, и все, что он успеет переправить на берег, составит основу мироздания. Плюс-минус один предмет имеет огромнейшее значение. Завораживает. Но и в волшебном нарративе есть то, о чем ты говоришь. То есть некое действие идет после другого действия, и последствия могут быть безумными совершенно. По поводу безумных последствий — это вообще, может быть, один из самых важных моментов в текстах для меня. Скажем, при роковом стечении обстоятельств неправильно набранный телефонный номер может привести к запуску космического корабля...
В великой формуле жизни Венедикта Ерофеева («Все на свете должно происходить медленно и неправильно...») временная составляющая поменяла полюс, медленно стало быстро, очень быстро.
— Твои тексты заставляют меня думать про цепи Маркова: каждый следующий элемент целиком сдвигает читательское представление о происходящем. Как они строятся — если не слишком интимный вопрос?
— По звуку, как в темной комнате, когда идешь на звук. Не визуальный ряд. Все по звуку.
— Когда ты говоришь: «Вот что я хочу озвучить (или «показать»), вот бутылочное дерево, вот скворцы желтоухие, вот бульвар» — ты все время говоришь о признаках не просто мирного, а хрустально безмятежного времени. Ты предлагаешь читателю мир, в котором существует пусть и очень напряженный, но железный порядок, — и это возвращает нас к разговору о механике.
— Совершенно справедливо, да. Но железный порядок — он тактического рода. Стратегически царствует полное безумие.
— Какие силы поддерживают этот порядок — и что это за мир, в котором стратегически — хаос, а тактически — все на своих местах и каждое бутылочное дерево стоит там, где положено?
— По-моему, это наш мир. Этот порядок — это, собственно, наша способность договориться. Свобода — это умение договориться. Даже если ты один в парке или один в городе — ты все равно должен договориться с окружающей средой. Ты должен договориться с неодушевленными предметами. А когда появляются одушевленные — договариваться и с ними. Для того чтобы твое пространство стало возможным для проживания. И железный порядок... Наверное, слово «железный» не совсем то, сразу Бисмарк встает на горизонте, но порядок, во всяком случае, строгий. Не разгильдяйский.
— Как писал Маяковский — «Все в страшном порядке»?
— Да-да-да.
— «Кто тучи чинит?» Но это же чудовищно ресурсоемкая работа: персонаж твоего мира ни на секунду (даже если это одинокий механик) не остается в состоянии покоя. Он все время во взаимодействии с якобы спокойной средой, требующей поддержания железного порядка.
— А разве мы живем иначе? Я думаю, что нет.
— Это приводит нас к разговору на болезненную для многих из нас тему — помня, что мы с тобой говорили об этом не раз. О писании, чтении — ну, о думании стихов во время тяжелых событий и больших катаклизмов, вот как сейчас. Ты как-то сказал, что у тебя бывают времена, когда, по твоему личному ощущению и лично для тебя же, эти занятия «естественны», а бывают — когда «неестественны». Расскажи про это, пожалуйста.
— По Хармсу — тошнит или не тошнит. Наверное, моя природа конвульсивная. То есть спазмы, конвульсии — это мой лексикон. И мое высказывание, мой текст — это своего рода судорога, причем природу, устройство этой судороги совсем нет желания рассматривать. И сегодня мои прыжки и завывания уходят куда-то в другое поле. Может быть, завтра я смогу что-то сделать, я вовсе не обязательно заткнулся из-за внешних обстоятельств — вот и все.
— Чем внутри тебя занято это пространство? Что там лежит?
— Близкие люди, нектарницы, бульвар, иногда книги, иногда море.
— Тогда это поле, которое существует в режиме ультрамирного времени. Не просто мирного времени, а порядка и покоя.
— Совершенно верно, да. Собственно, на этом острове я и спасаюсь, потому что другого у меня нет.
— Но — поскольку речь идет об Израиле вообще и об Иерусалиме в частности — вот уж где сейчас нет порядка и покоя.
— О порядке и покое говорить одинаково немыслимо и в Иерусалиме, и в Москве. Если существует закон сохранения информации, то он действует везде. Например, при анестезии информация о боли блокируется, но, вероятно, не исчезает. Вернется ли информация о боли — м.б. через много лет — к пациенту? К врачу-анестезиологу? Или упадет как снег на голову ничего не подозревающему человеку?
— Тогда, возвращаясь на твой остров, — там кроме любви и воли к покою чувствуют еще что?
— Обыденность ежедневных действий — в ней, конечно, есть какой-то момент такой пугающий. Но вот как раз настоящее терапевтическое начало — оно именно в этом, в повторяющихся действиях каждый день.
— В routines?
— Да. Но если рутина не предполагает столько мною сегодня упоминавшихся родственных связей — она ничто. Она не имеет никакого смысла. Поиск живого — здесь, наверное, можно остановиться. А живое в моем понимании — это то, что тепло, то, что можно обнять, то, к чему можно прислониться плечом. Живое — это восторг. И связь между поисками живых людей и событий и восторгом мне кажется совершенно прямолинейной.
— Я вдруг поняла, какую важную картинку твои тексты являют у меня в голове: «Спокойно, но увлеченно беседуя о сезонном окрасе оленей, граждане направляются в бомбоубежище».
— Я тебе рассказывал, помнишь? Во время последней войны падали «скады» в районе Иерусалима. Зазвучала сирена воздушной тревоги. Я как раз ел суп — облизал ложку и пошел в спальню, где меньше всего окон, согласно инструкциям ГО. И я сидел с этой ложкой, пока не услышал далекий бум. Потом вернулся на кухню и доел суп. Вот ты об этом, как мне кажется. Но я не могу понять ложку, зачем я взял с собой ложку?
— Мне кажется (применительно к стихам поэта Шваба), ложка — это то, что в любой ситуации, в том числе в абсолютно экстремальной ситуации жизни и смерти, сохраняет связь персонажей с тем размеренным бытованием посреди хаоса, за которое они, собственно, борются. И борьба за которое, по большому счету, и есть смысл их жизни.
— Всегда.
Леонид Шваб. Ваш Николай. — М.: Новое литературное обозрение, 2015
Понравился материал? Помоги сайту!
 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизия