 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?
Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 2023298076, 8, 10 и 12 января в Москве, как обычно, пройдут концерты фестиваля камерной музыки «Возвращение». За 18 лет своего существования из молодежного эксперимента, затеянного двумя выпускниками Гнесинской школы, он превратился в обязательную зимнюю часть программы любого уважающего себя интеллигентного меломана. Новость этого года — объявленный фестивалем краудфандинговый проект — стала поводом для встречи Екатерины Бирюковой с одним из руководителей фестиваля, скрипачом Романом Минцем.
— Запущенный «Возвращением» краудфандинговый проект по сбору денег на проведение фестиваля — это свидетельство чего? Что дела совсем плохи? Или, наоборот, что фестиваль обретает новое дыхание и использует новые возможности?
— Да дела, в принципе, такие же, как обычно. Я лично не верил, что можно таким образом денег собрать. Но я смотрю, все собирают, многие мои знакомые, ну и мы решили попробовать. Потому что альтернатива только одна — свои деньги вложить. Мы сейчас уже почти 90 000 собрали, это, в принципе, неплохо. С другой стороны, если мы соберем меньше 200 000, то есть меньше половины, нам просто ничего не дадут и все разошлют обратно — такие условия.
— Изначально фестиваль имел частный статус. Но вроде Московская филармония когда-то взяла вас под крышу?
— Не то чтобы под крышу. У нас с филармонией есть партнерские договоренности. Она фактически не вкладывает в нас денег. Она нам арендует зал, а потом деньги за билеты забирает. Выходит в ноль.
— Всего-то в ноль? У вас же переполненные залы!
— Но и цена за аренду зала высокая. Для филармонии она, естественно, ниже, чем если бы мы сами туда пришли. Но все равно. А у нас остаются затраты на все остальное — билеты и проживание для некоторых участников, оформление виз, полиграфия, администрирование.
— При этом вы не платите гонораров.
— Да, гонораров не платим. Иначе бы это совсем другой бюджет был.
Но, наверное, уже смело можно сказать: мы с Димой (гобоист Дмитрий Булгаков, с которым Минц на пару рулит «Возвращением». — Ред.) как фандрайзеры просто несостоятельны, мы не можем нормально искать спонсоров, это не наша стезя. Несколько раз были люди, которые нам помогали. Но это случайно. Прошлый наш долгий меценат просто пришел с кем-то за компанию к нам на концерт, потом подошел и спросил, не нужна ли нам поддержка. Такой сказочный случай. Но с тех пор у его банка уже отозвали лицензию, а сам он живет за границей.
— И сколько, думаешь, так можно еще просуществовать? За это время ведь и конкуренты какие-то, наверное, у вас появились.
— Было два случая, когда мне говорили: у вас крадут идею. Один — фестиваль в Армении «Возвращение». Он появился на много лет позже нашего. С декларированной идеей собирания армянских музыкантов, разбросанных по миру. Ну и в России большой фестиваль был основан с похожей концепцией на момент создания. Но — может, это высокомерно прозвучит — чтобы у нас украсть фестиваль, надо украсть наши мозги. Те, кто ходит на наш фестиваль, ходят потому, что им нравится то, что именно мы делаем.
— И все-таки. Сколько еще можно продержаться в статусе такого негосударственного фестиваля?
— А он только такой и может быть. Он таким был с самого начала и этим отличался от всего, что вокруг. Нам было по 20 лет, мы сами его себе сделали. Если ему придется стать государственным, подвластным, то он просто исчезнет. Я не могу работать под кем-то.
— А чем, скажем, может давить филармония? У вас же, насколько я понимаю, нет с ней репертуарных разногласий?
— У нас с филармонией разговоры только об одном — мы всегда просим сдерживать цены на билеты. А так они с пониманием к нам относятся. Они знают, что мы не подводим их, не висим на их балансе, как какое-то убыточное мероприятие. Хотя кассовый сбор, конечно, зависит и от размеров зала. В этом году будет не Малый зал, который на ремонте, а Рахманиновский.
— В Рахманиновский же ваша публика не влезет!
— Да, влезут только те, кто сейчас успеет купить билеты. Он сильно меньше Малого, но вариантов не было.
— Камерный зал Дома музыки не рассматривали?
— Не то. По духу не то. Там охранники.
— Да уж. Я недавно была на концерте, где охранник не хотел пускать на сцену раскланиваться композитора Георгия Пелециса, музыку которого весь вечер исполняли.
— Да, я читал об этом. Поэтому и говорю. Для большинства людей, которые ходят на наш фестиваль, он состоит из нескольких компонентов. И атмосфера — чуть ли не на первом месте. И если это будет казенное место с охранниками, то сразу поменяется настроение всего, что происходит. Мы эти вещи с Димой даже не обсуждаем, потому что это и так понятно.
— Так какие могут быть противоречия у вашего фестиваля с государственным финансированием?
— Глава государства как-то произнес хорошо известное выражение — «кто девушку обедает, тот ее и танцует» — и этим сразу обозначил расстановку сил в нашей стране. Я не хочу, чтобы меня танцевали. Или хотя бы — чтобы я давал повод думать, что меня можно танцевать. У Димы то же самое. Поэтому становиться каким-то государственным институтом для нас неприемлемо. Мы можем быть с государственной структурой в партнерских отношениях, но не более того. Дело в том, что у нас человек не может чувствовать себя свободно, однажды получив деньги от государства. Потому что считается, что государство — это какой-то живой организм, который после этого имеет право на твою душу.
А если кому-нибудь завтра не понравится текст какого-нибудь произведения, которое я хочу исполнить? Или еще что-нибудь. Я хочу иметь возможность говорить то, что считаю нужным. Просто всегда надо очень четко обозначать свою позицию. Нас, музыкантов, в принципе не очень этому учат. В музыкантской среде вообще такое понятие, как принципиальность, не является чем-то важным по умолчанию.
— Почему так происходит, как ты думаешь?
— Потому что очень много компромиссов с самого детства надо совершить для того, чтобы чего-то добиться. Любой конкурс — это уже компромисс. Поскольку представить себе человека, который мечтает играть все то, что он играет на конкурсе, очень тяжело. Но это еще ладно. А вот другой пример. У многих моих знакомых не возникает внутреннего диссонанса от того, что у них есть определенная позиция по поводу происходящего вокруг и что они при этом выходят на сцену с людьми, которые поддерживают совершенно противоположную позицию. Более того, люди вокруг них эту тему даже не поднимают. Может, один раз в жизни выпадает у человека шанс выйти в такой компании на сцену. И его нельзя упустить. И каждый следующий молчаливо это понимает. И он бы так же поступил — если бы к нему когда-нибудь обратились с таким предложением. 90 процентов из 100. И начинаются разговоры про то, что «музыка отдельно, а политика отдельно».
— Это очень больная тема последнего времени.
— Она, может быть, сейчас обострилась. Но она всегда есть. Это тема принципов. Я же учился до 8 класса не в музыкальной, а в обыкновенных общеобразовательных школах, в том числе знаменитой 57-й, и когда перешел в Гнесинку, мне очень сложно было туда вписаться. Вот в это воспитанное с детства: «в приоритете — только то, что нужно для твоей карьеры».
— Но в твоем фестивале ведь участвуют музыканты, которые в другом фестивале выходят на сцену с человеком, чья политическая позиция противоположна твоей. Где та грань, которую ты считаешь невозможным перейти?
— Грань — во мне. Я не экстремист. Я, конечно, не перестану здороваться с кем-то. Могу ему, впрочем, сказать, что считаю его поведение неправильным. Хотя от этого же ничего не изменится. Но я просто решил для себя, на что я готов и на что нет. И я хочу подчеркнуть, что меня коробит не разность политических позиций — к этому я отношусь нормально, как и к любой разнице во мнениях, — а лицемерие: в разговорах позиция одна, а в делах — другая.
 Фестиваль «Возвращение»© muzklondike.ru
Фестиваль «Возвращение»© muzklondike.ru— Сложно ли попасть в «Возвращение» молодому музыканту?
— И сложно, и просто. Возраст, кстати, вообще не играет никакой роли. Главное — чтобы был хороший музыкант и приятный человек, с которым можно общаться. Есть люди, которые хорошо играют, но я их не зову, потому что они не впишутся в общую тусовку. А так, нужен человек — и он как-то всегда находится. Например, нужен виолончелист. Естественно, я сначала звоню Андрианову, Блаумане. Бац — оба не могут. Тут я начинаю вспоминать, кого мы еще знаем. В результате будет играть Настя Кобекина, которая когда-то принимала участие у нас в «Детском альбоме», а теперь очень много где выступает. В этом году вообще будет много новых участников.
— Географический принцип важен? Они должны быть откуда-нибудь вернувшимися?
— А мы никогда за него не держались. Это просто то, за что сразу схватились, так легче было написать в газете: «Возвращение» — это значит, что Минц и Булгаков приезжают из-за рубежа. Но это даже не обсуждалось нами как основная идея. Яша Кацнельсон, например, играет у нас с первого фестиваля и никогда никуда не уезжал. «Возвращение» для меня — это в большей степени возвращение нашего ощущения. Мы же группа людей, которые выросли в одно время в одном месте. Даже если кто-то учился в ЦМШ, а не в Гнесинке, — все равно все между собой общались.
— То есть это возвращение в детство?
— Возвращение друг к другу. Все это дуракаваляние, всякие тексты в буклетах. После окончания школы все оказались в разных местах. Кто-то в Москве, кто-то нет. И на какое-то время мы расстались. Потом года через два начали собираться, поиграли, придумали такой фестиваль.
— Русская исполнительская школа — это понятие за 18 лет, что идет фестиваль, кажется, вообще растворилось?
— Я думаю, конец русской исполнительской школе пришел в тот момент, когда железный занавес упал. Но, конечно, этот конец пришел не одномоментно, потому что никакая машина не останавливается сразу, есть сила инерции. И, собственно, то, что называют русской исполнительской школой — советской исполнительской школой, на самом деле существовало только благодаря тому, что все было закрыто. Герметично. Возможностей обмена идеями было очень мало. И поэтому она развивалась внутри этих границ. Границы открыли — все. О какой школе может идти речь, если все находятся везде?
— Вы, возвращенцы, ощущаете себя «последним поколением»?
— Я ощущаю себя человеком, который еще помнит, как его принимали в пионеры. Я на равных общаюсь с людьми, уже не заставшими этого, я с ними на «ты», но для них это уже из учебника истории.
— Я имею в виду все-таки принадлежность к этой легендарной исполнительской школе, а не к пионерам...
— А это одно и то же. Какая разница? Как только упал занавес, люди рванули обогащаться новыми знаниями. Как только они увидели, что происходит вокруг, обнаружили, что мы не пуп земли (ведь были такие комплексы), — для многих это был шок. Вот я в Лондоне учился, заходил в класс, и там до меня румынка играла, сейчас она в знаменитом квартете работает, после меня — англичанин, украинец, японка. Лучшие из лучших собирались отовсюду. Это совершенно другая была история, нежели здесь. Здесь все варились в собственном соку.
— Как составляется программа фестиваля? У вас всегда четыре вечера, три из которых имеют свои темы, а последний — ассорти под названием «Концерт по заявкам». Кто придумывает темы первых трех концертов? Или сначала выясняется, кто что хочет сыграть, а потом распределяется все это по разным кучкам?
— По-разному бывает. Бывает, кто-то звонит и говорит, что очень хочет сыграть такую-то вещь. Тогда я начинаю копать вокруг этой вещи, искать, какие с ней связаны истории. Из этого может родиться какая-то тема. Иногда тема просто придумывается изначально.
— Одна из программ этого года посвящена суициду…
— Эта тема витала очень давно, но никак я ее не мог реализовать. А сейчас сложилось. Отправной точкой был Третий квартет Брамса. Есть письмо Брамса к исполнителям, где он предлагает им представить себе человека, который собирается выстрелить себе в голову, потому что ему больше ничего не остается сделать. Он даже иногда называется «Вертер-квартет» в околомузыковедческой литературе. Но вот что интересно. Вся музыка, которая будет в этой программе, написана не теми, кто покончил с собой, а теми, кто интересовался этой идеей. А у тех, кто покончил, как раз ничего на эту тему и нет.
Важная для меня программа, посвященная Шостаковичу. В ней перемешана музыка, которая влияла на Шостаковича, с музыкой тех, на кого он влиял. Когда я набирал информацию для этой программы, меня вдруг осенило, что самые оригинальные ученики Шостаковича, сумевшие обрести самостоятельный голос, — Уствольская, Свиридов — имели крайне тяжелые с ним отношения, очень резко о нем высказывались.
— А Вайнберг?
— Вайнберг для меня — это все-таки скорее эпигон (сейчас, конечно, меня разорвут на части). В общем, портрет Шостаковича, который получится в результате этой программы, будет совершенно неканоническим. Я все время, когда ее делал, думал: почему у нас Шостакович практически канонизирован? Почему он стал нашим главным композитором? И почему он так близок нашей интеллигенции? И вот почему, мне кажется. Потому что он собой оправдывал каждого, кто на кухне был одним, а в жизни другим. Грубо говоря, одной рукой он вписывал «Сулико» в Виолончельный концерт, другой — подписывал письмо против Сахарова. Он оправдывает эту идею — «подумаешь, да ладно, зато он музыкой все сказал, зато у него есть фига в кармане». Я никак не отрицаю гениальность его музыки, как отрицает, скажем, Уствольская, но это вот такая неоднозначная фигура. Его статус — на уровне какого-то невероятного мученика. Но ведь все его мучения были только внутри себя, от собственного страха. Потому что, когда он подписывал письмо против Сахарова, никто ему уже ничего сделать не мог. И вот эта сдача себя этому страху — она невероятно близка нам всем до сих пор.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202329807 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202258609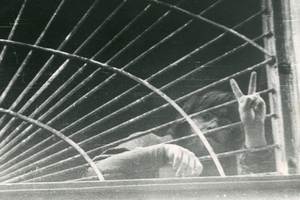 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202275208 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202241773 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 2022103542 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202261683 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202242365