 Современная музыка
Современная музыкаШумов & Борзыкин. «Правильно»
Лидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета
19 ноября 20211553 Открытие выставки «Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912). Из частной коллекции»© Антон Ваганов / Коммерсантъ
Открытие выставки «Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912). Из частной коллекции»© Антон Ваганов / Коммерсантъ«Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи» — так называется выставка в манеже Малого Эрмитажа. Керамика, эмали, лаки, металл — дорогая экзотика, полтора века назад покорившая два переломных поколения художников, импрессионистов и постимпрессионистов, и позволившая заработать тысячам китайских мастеров, штамповавших подделки. Мир был очарован японской эстетикой, но сполна воспользоваться своей победой японцы не смогли. Они принялись подстраиваться под покупателя — капризный Старый Свет — либо копировать его наработки. Островное государство с цветущим букетом национальных комплексов. Посмотрите, например, на продукцию японских художников, узнавших о существовании перспективы в нашем понимании. Они играют с ней, как малые дети в свой первый конструктор, строя нелогичные, страшненькие подобия домиков для своих куколок-гейш.
Эрмитажная выставка роскошна — это лучшие образцы прикладного искусства. Такие качественные и утонченные, что хочется немедленно унести их в свои несуществующие апартаменты. Поздние посетительницы выставки, разглядывая круглый столик со вставками цветной эмали, всерьез рассуждают, как бы они его чистили, если бы он стоял у них дома. Принято считать, что, например, русская культура литературоцентрична, а японская как будто вертится вокруг дорогих сувенирных безделушек, монументальных ваз, кимоно. В самом тиражируемом произведении средневековой японской литературы — «Повести о Гэндзи» — так детально описаны цвета и количество слоев рукавов, в которые герои любят всплакнуть, что в это легко поверить. Однако прикладное искусство при императоре Муцухито (посмертное имя Мэйдзи — «просвещенное правление») стало элементом госпрограммы по экспорту. Оно вошло в моду в Европе, и с мастерских требовалась стилистически выверенная продукция. Вместо самурайского сословия, которое штучно заказывало ритуальные предметы для внутреннего пользования, заказчиком стал огромный внешний рынок. Старому Свету нужна была узнаваемая экзотика, над которой японцы терпеливо корпели. В Эрмитаже представляют лучшее, шедевры, но гораздо больше было поделок и подделок. Чтобы понять японскую культуру этой неоднозначной эпохи, стоит обратиться к литературе. Писателей в Европе и своих было более чем достаточно, поэтому японцы в этом плане были предоставлены сами себе.
Геополитически Японию в канун реставрации императорской власти можно сравнить с сегодняшней Северной Кореей.
Тогда появились Мори Огай, Нацумэ Сосэки, Дзюнъитиро Танидзаки, Рюноскэ Акутагава, Ясунари Кавабата, Сёхэй Оока, а затем Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ — несколько поколений писателей, которые в сфере психологического реализма заткнут за пояс многоречивых Золя и Бальзака. Просто у японцев было достаточно времени на самокопание: пока Франция тешилась скандалами, интригами и революциями, японцы сидели тише воды, ниже травы, питаясь примерно тем же — водой и травой. Геополитически Японию в канун реставрации императорской власти можно сравнить с сегодняшней Северной Кореей. Изолированное бедное государство с чудовищной бюрократией, дряхлым судостроением (на островах-то!), устаревшей обороной. И качество предметов прикладного искусства — тех самых лаков, ящичков, трубок — зависело от того, кому их собирались подарить. В какой-то степени эти подарки и стали японской «обороной» от незваных гостей их портов.
Иван Гончаров, в 1852—1855 годах совершивший плавание на военном фрегате «Паллада», написал по итогам одноименную книгу, местами более острую и современную, чем его художественная проза. Большую часть путешествия фрегат, впрочем, провел у берегов Японии. Миссия «Паллады» должна была стать «открывашкой» Японии — дело было накануне реставрации Мэйдзи 1868 года, и самые прозорливые правительства надеялись первыми заключить торговые соглашения. Гончаров отмечает, что в момент прибытия «Паллады» в Нагасаки — единственный официально открытый для иностранцев порт Японии — американцы уже зашли в столичный порт Эдо. Задолго до того, как холодная война стала мейнстримом, русский вице-адмирал Путятин делал все возможное, чтобы опередить США.
 Кабинет сагэдансу. Мастер Сибата Дзэсин. 1890-ые© Государственный Эрмитаж
Кабинет сагэдансу. Мастер Сибата Дзэсин. 1890-ые© Государственный ЭрмитажТак вот, Гончаров пишет, какие высококлассные вещи японцы дарили адмиралу и какие простые — например, ему. «Часов в 11 приехали баниосы с подарками от полномочных к адмиралу. <…> Но что за вещи прислали они — загляденье! Один прислал шкатулку, черную, лакированную, с золотыми рельефами храмов, беседок, гор, деревьев. Лак необыкновенно густ, черен, не сходит, говорят, десятки лет и чист как зеркало. Таких лакированных вещей нигде нет. Другая коробочка испещрена красно-золотистыми, потонувшими в лаке, искрами. При шкатулке были разные безделки: курительница для порошков… Но самым замечательным и дорогим подарком была сабля — по достоинству и по назначению» [1].
Открытие Японии совпадает с расцветом русского реалистического романа, и тут можно с гордостью прослеживать влияния и родственные связи. Особенно четко они видны у Акутагавы. Аркадий Стругацкий, переводивший с японского, называл Акутагаву отцом современной японской литературы [2]. Первый сборник его рассказов должен был выйти еще при жизни писателя. Акутагава даже написал к нему трогательное предисловие, в котором назвал Наташу (Ростову) и Соню (Мармеладову) своими сестрами. Японец подобрался к нашим классикам ближе многих европейцев: писал рассказы с очевидными отсылкам к Гоголю («Нос») и Чехову («Сад»), а «Вальдшнеп» начинается так: «Это было под вечер, в мае 1880 года. Иван Тургенев, гостивший в Ясной Поляне через два года после того, как он там был последний раз, и граф Толстой, хозяин усадьбы, пошли в лес за Воронку поохотиться на вальдшнепов» [3]. Это был бы просто абзац похвалы русской школе, если бы не оказалось так, что Акутагава, признавший, что русская литература повлияла на него сильнее прочих, первым из японцев вышел на глобальный уровень, одинаково обогатив национальную и мировую литературу. Он транслировал японское самосознание — нечто, в отличие от экспортируемых дорогих вещиц, нематериальное.
 Будда Шакьямуни. Марка «Мэйбидо». Середина XIX в.© Государственный Эрмитаж
Будда Шакьямуни. Марка «Мэйбидо». Середина XIX в.© Государственный ЭрмитажЯпонцы долгое время оставались наедине со своей островной и мощной китайской литературой, но создали ряд сильных самостоятельных произведений, особенно отличившись в раннее Средневековье, когда придворные дамы писали романы дневникового типа (а «Гэндзи-моногатари» Мурасаки Сикибу надолго стал образцом утонченности и источником образов). Отдельным ярким аккордом можно считать открытие в 1940 году «Непрошеной повести» Нидзё — придворной дамы рубежа XIII—XIV веков. Кроме лирических переживаний, она неожиданно тонко чувствует окружающие реалии, будь то дворцовые интриги или геополитика. Это национальный жанр, очень интимный и неожиданно близкий к современному реализму — в отличие от хроник, где японцы многое заимствовали из Китая.
Китайское искусство веками проникало в Японию по праву большого и сильного соседа, несмотря на то что ментально японская культура серьезно отличается. Следы китайского влияния — в ярких красках, режущей глаз пестроте эмалей, тогда как сами японцы больше склонны к неброским нежным или благородным темным цветам. «Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и мантилий отсутствие ярких и резких красок, — пишет Гончаров. — Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого: всё смесь, нежные, смягченные тона того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. <…> Я забывал, где сижу: вместо крайнего Востока как будто на крайнем Западе: цвета в туалете — как у европейских женщин» [4]. Белобокая керамика Сацума, которая регулярно удостаивается профильных выставок, появилась благодаря группе корейских гончаров, переехавших в Страну восходящего солнца. Технические особенности и яркий стиль сделали ее бестселлером международных выставок, но что дальше? Современные художники по фарфору порой критикуют Императорский фарфоровый завод — флагман российского фарфорового производства — за консервативность. Но туристы, коробками скупающие продукцию ИФЗ, хотят «кобальтовую сеточку», реплики посуды времен расцвета авангарда и росписи в стиле Воробьевского. Это стилистически застывшие вещи, обреченные на стабильный спрос. Так случилось и с японским прикладным искусством.
Как мы знаем, японские иероглифы еще отомстили Западу модой на сомнительные татуировки.
Можно долго любоваться качеством исполнения и самобытностью лучших эмалей, фарфора и керамики, металлических изделий эпохи Мэйдзи. Но, найдя столь привлекательный стиль, японские мастера едва не потеряли самих себя. Дзюнъитиро Танидзаки в программном эссе «Похвала тени» (1934) пишет: «Возможно, что говорить как я — значить мечтать о невозможном, брюзжать по поводу невыполнимого. Пусть так, но да позволено нам будет размышлять о том, какой ущерб несем мы в сравнении с европейцами. Ведь дело в том, что европейская цивилизация достигла современного уровня, развиваясь нормальным путем, в то время как мы, столкнувшись с более развитой цивилизацией и приняв ее, вынуждены были отклониться в сторону от того пути, каким шли несколько тысячелетий» [5].
Он мечтает о «самобытной технической культуре», которая появилась бы, если бы не революция, о том, что новым поколениям японцев не приходило бы в голову «латинизировать» японскую письменность. А ведь утрата алфавита, символов языка, — почти летальный исход для национальной литературы. Как мы знаем, японские иероглифы еще отомстили Западу модой на сомнительные татуировки.
 Бэнкэй, держащий колокол. Мастерская Мияо Эйсукэ. Ок. 1890© Государственный Эрмитаж
Бэнкэй, держащий колокол. Мастерская Мияо Эйсукэ. Ок. 1890© Государственный ЭрмитажТанидзаки принадлежит к переломному поколению, родившемуся уже в открытой стране. Он прошел период очарования Западом и вернулся к национальному началу, уже в зрелом возрасте создав лучшие произведения. Не хочется преуменьшать влияние японского искусства на европейское — модерн заимствовал многие мотивы, — но все же это было перекраивание под себя. В эпоху Мэйдзи был в моде натюрморт (жанр «цветы и птицы», который разделялся на поджанры вроде «водные растения и рыбы»), в сочетании с эстетикой прерафаэлитов давший модерну безошибочно узнаваемый стилистический сплав. Но модерн в равной (а в некоторых странах и в большей) степени был «национализирован», в рамках стиля шло освоение местного наследия. Для японского же искусства «золотой век» сошел на нет, и дело вовсе не в Первой мировой. И даже не во Второй. Перед временем, войнами и, главное, цивилизационным цунами японскую национальную идентичность отстаивала литература — в 1968 году Ясунари Кавабата, писатель, укорененный в японской традиции сильнее ряда европеизированных предшественников, получил Нобелевскую премию «за писательское мастерство, которое передает сущность японского сознания». Западный мир как будто впервые признал не японские «сувениры», а японское сознание.
[1] И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада». — М., Дрофа, 2009.
[2] Акутагава Рюноскэ. Новеллы. — М., Художественная литература, 1974.
[3] Акутагава Рюноскэ. Ворота Расёмон. Новеллы. Перевод с японского Н. Фельдман. — М., Эксмо, 2008.
[4] И.А. Гончаров. Фрегат «Паллада». — М., Дрофа, 2009.
[5] Танидзаки Д. Похвала тени. Перевод с японского М. Григорьева. — СПб., Азбука-классика, 2006.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаЛидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета
19 ноября 20211553 Современная музыка
Современная музыкаНовый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца
18 ноября 2021197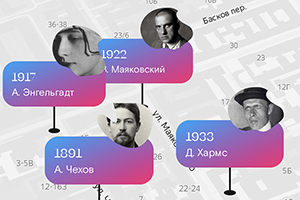 Театр
Театр Общество
ОбществоО чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко
18 ноября 2021199 Кино
Кино Театр
Театр Литература
Литература Colta Specials
Colta SpecialsЭбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века
16 ноября 2021221 Colta Specials
Colta SpecialsПеред лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией
16 ноября 2021183 Академическая музыка
Академическая музыка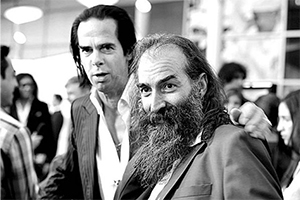 Современная музыка
Современная музыкаВ книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата
16 ноября 2021178 Академическая музыка
Академическая музыка