 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202427233 Дверь и мозаичная панель XV века из самаркандского мавзолея Гур-Эмир на выставке Василия Верещагина в ГТГ. Монтаж© Государственная Третьяковская Галерея
Дверь и мозаичная панель XV века из самаркандского мавзолея Гур-Эмир на выставке Василия Верещагина в ГТГ. Монтаж© Государственная Третьяковская ГалереяВ университетской науке Запада коннотации и содержание понятия «ориентализм» резко изменились несколько десятилетий тому назад под влиянием главного интеллектуального бестселлера Эдварда Саида — книги «Ориентализм» (1978). Если до того под ориентализмом понимали нечто, вдохновленное Востоком и романтически благоухающее заморскими пряностями, то с конца ХХ века на него старались смотреть трезво и критично. «Восток» и «восточные люди» стали восприниматься как европейская выдумка, бывшая одновременно следствием и инструментом колонизации множества стран, от Марокко до Вьетнама. Все чаще и чаще само слово Orient приходилось заключать в кавычки — в существование реального Востока, якобы по природе своей отличного от Запада, верилось все меньше.
Хоть и с задержкой, в России постколониальные исследования также укоренились на многих университетских кафедрах. Если в начале 2000-х научные рецензенты могли комплиментарно оценить академическую новинку как написанную «в лучших традициях русского ориентализма», то сегодня такая характеристика выглядела бы по меньшей мере двусмысленно. В последнее десятилетие появилось немало текстов по истории русского искусства, написанных с учетом постколониальной оптики, — достаточно вспомнить книгу Алексея Бобрикова «Русское искусство. Все, что вы хотели узнать о Репине, но боялись спросить у Стасова» («НЛО», 2012 г.). Нельзя не упомянуть и о новом контексте, возникшем после публикации исследования Веры Тольц «Собственный Восток России» («НЛО», 2013 г.), продемонстрировавшего отличия классического российского востоковедения от западного, а также то, что Эдвард Саид опосредованно воспользовался советской критикой ориентализма, у истоков которой стоял российский академик-востоковед Сергей Ольденбург. Все это открывало перспективу критического анализа ориенталистской художественной традиции в России и пересмотра истории взаимодействия России с так называемым Востоком. Однако музейный мир России к перемене участи ориентализма продолжает относиться настороженно, что доказали выставки прошедшего года.
 Выставка Верещагина в ГТГ. Фрагмент экспозиции© Алексей Улько
Выставка Верещагина в ГТГ. Фрагмент экспозиции© Алексей УлькоПросвещенные английские колонизаторы считали «аборигенов» Индии варварами. Во спасение культуры Древнего Востока они выковыряли алмазы с бриллиантами из облицовки мавзолея Тадж-Махал и отослали их в метрополию. Став еще просвещеннее, они покаялись в колониализме, но алмазы не вернули. Что-то теперь посверкивает на британской короне, что-то — в государственных и частных собраниях, остальное Конан Дойл утопил в Темзе руками нецивилизованного андаманского карлика.
Просвещенные российские колонизаторы считали среднеазиатских «туземцев» варварами. Во спасение культуры Древнего Востока они выломали двери и панно из мавзолея Гур-Эмир и отослали их в метрополию. Василий Верещагин написал прославившую его серию «Варвары», утверждавшую необходимость искоренения среднеазиатской дикости посредством цивилизованного русского правления. Большевики охотно обличали колониализм царской России, но артефакты Гур-Эмира не вернули, а затем объявили колонизацию объективным благом для экс-«туземцев». Серия «Варвары» и трофеи Гур-Эмира с марта по июль 2018 года цивилизованно демонстрировались на выставке Верещагина на Крымском Валу.

Картина «Двери Тамерлана» и дверь из мавзолея Гур-Эмир на выставке Василия Верещагина в ГТГ. Фрагмент экспозиции
© Эрмитаж
Ориентализм основывался на приписывании Другому собственных тайных фантазмов, в нем всегда были крайне важны отступы декларируемого от замолчанного. Поэтому новое прочтение ориенталистской классики не может сегодня обойтись без разоблачения европейских фикций. Творчество Верещагина представляло бы для подобной музеологии выдающийся материал.
То, чем виделось завоевание Средней Азии Верещагину, активному участнику боевых действий, которому доводилось, по его собственному выражению, «стрелять людей, как куропаток», серьезно отличалось от того, что попало на его картины. Художник искренне верил в цивилизаторскую миссию России, полагая, что для «погрязшего в дикости» среднеазиатского края было бы равным объективным благом русское или английское завоевание. Несмотря на нашумевшее переименование памфлетического полотна «Торжество Тамерлана» в «Апофеоз войны» с «пацифистским» посвящением «всем великим завоевателям», несомненные варвары на его картинах — именно азиаты. Для более убедительного обличения среднеазиатской дикости «реалисту» и «репортеру» Верещагину пришлось серьезно купировать реальность, которую он видел перед собой.
Большевики охотно обличали колониализм царской России, но артефакты Гур-Эмира не вернули, а затем объявили колонизацию объективным благом для экс-«туземцев».
Сцены отрубания и демонстрирования трофейных голов, бывшие, по его словам, «лучшим, что может характеризовать варварство», фигурировали на его картинах неоднократно, хотя сам он подобных экзекуций воочию не наблюдал (в верещагинских дневниках есть лишь упоминания обезглавленных трупов, оставшихся на полях сражений, — остальное художнику подсказало воображение). Зато массовые расстрелы, чинимые колониальными администраторами для запугивания покоренного региона, художник лицезрел во всех деталях. Например, такие: «Как теперь вижу генерала Кауфмана на нашем дворе, творящего суд и расправу над разным людом, или захваченными в плен с оружием в руках, или уличенными в других неблаговидных делах. Добрейший Константин Петрович, окруженный офицерами, сидел на походном стуле и, куря папиросу, совершенно бесстрастно произносил: “Расстрелять, расстрелять, расстрелять, расстрелять!”» (В. Верещагин. На войне в Азии и Европе. — М., 1898). Однако в Туркестанскую серию подобные показательные акции явившихся в Азию джентльменов-колонизаторов не попали. И устроители выставки в Третьяковке также не подняли вопрос о столь явных недоговорках.
 Василий Верещагин. После удачи. 1868. Холст, масло© Государственный Русский музей
Василий Верещагин. После удачи. 1868. Холст, масло© Государственный Русский музейСобственно, сами выкорчеванные двери изуродованного шедевра средневековой архитектуры могли бы стать прозрачным выставочным символом того, как колонизация, говоря словами Эме Сезера, «децивилизовывала колонизаторов». Однако произошло прямо противоположное: дверные мощи мавзолея предстали на Крымском Валу бережно сохраненным Россией сакральным мистическим объектом, в который устроители вложили смыслы, никогда не озвучивавшиеся Верещагиным и его биографами. Согласно куратору выставки Светлане Капыриной, двери Гур-Эмира являются «важным артефактом в понимании не только этой выставки, но и вообще в понимании творчества Верещагина» [1]. По словам куратора, она с коллегами «долго размышляла о том, что такое двери» и пришла к заключению, что «двери — это всегда пограничное существование, это всегда пограничный мир между чем-то и чем-то, между какими-то двумя мирами». Анализируя картину «Двери Тамерлана», она уточнила, что «в данном случае это (граница. — Б.Ч.) между миром Востока и Запада». После этого фантастического предположения трудно удивляться дальнейшему полету кураторской фантазии: «Это пограничный мир между ирреальным и реальным, между физическим и метафизическим, между раем и адом, между добром и злом, между черным и белым и т.д.». Воины на картине «Двери Тамерлана» и дервиши на полотне «У дверей мечети», согласно кураторскому видению, «охраняют свой мир» «от Запада, или от чужих цивилизаций, или вообще от чужого вторжения».
В остатке выходит, что, согласно кураторскому прочтению, настоящим врагом среднеазиатов были не реальные завоеватели, явившиеся из России, а злокозненный и превращенный в эссенциализированную субстанцию Запад, якобы противостоявший и угрожавший самаркандским властителям уже с тимуровской эпохи, т.е. с XIV века (!). Извечное бинарное деление мира на Восток и Запад, от которого пытались уйти русские востоковеды эпохи Ольденбурга и Бартольда, здесь предстало во всей своей первозданной простоте.
 Василий Верещагин. Представляют трофеи. 1871—1872. Холст, масло© Государственная Третьяковская Галерея
Василий Верещагин. Представляют трофеи. 1871—1872. Холст, масло© Государственная Третьяковская ГалереяПрирода классического ориентализма изначально заключалась в вымысле, который выдавался за реальность. Именно поэтому важнейшим подспорьем ориенталистов стали объективированные выкладки якобы беспристрастных научных исследований, документальная фотография, этнографизм и антропология в том расистском виде, в котором они практиковались в XIX веке. В традиционно «документальном» ключе была выстроена и экспозиция Третьяковской галереи. Помимо дверей тимуровского мавзолея здесь фигурировали многочисленные «вещественные доказательства» реалистичности верещагинской кисти: среднеазиатская деревянная колонна из Этнографического музея, схожая с колоннами на картине «Представляют трофеи», оружие русских солдат XIX века и т.д. Здесь кураторам ничего не пришлось изобретать. Как это нередко бывало при представлении ориенталистского искусства, сам Верещагин с удовольствием демонстрировал на своих европейских выставках бытовую утварь (текстиль, оружие, музыкальные инструменты) и даже чучела среднеазиатских птиц и животных. В подобном этнографическом сопровождении не нуждалось обычное европейское искусство. Трудно представить, чтобы на выставке импрессионистов в придачу к живописи поместили бутыли из бара в «Фоли-Бержер» или двери Руанского собора. Подобные вставки лишь принизили бы художников и их полотна, выпятив на первый план не новый художественный язык, а подручные сюжеты и бытовизм. Однако ориенталисты помнили французскую пословицу «A beau mentir qui vient de loin» («Пришедшему издалека легко рассказывать небылицы») и в документальной поддержке своей правдивости остро нуждались.
 Выставка Верещагина в ГТГ. Фрагмент экспозиции© Сергей Абашин
Выставка Верещагина в ГТГ. Фрагмент экспозиции© Сергей АбашинПоэтому задача современной музеографии в отношении ориентализма должна была бы состоять в том, чтобы за внешней объективированностью и документальной основой ориенталистских изображений продемонстрировать тенденциозность и идеологический характер дискурсов, правивших кистью художников. Однако авторы выставки, посвященной Верещагину, постарались избежать каких бы то ни было разоблачений. В том, что касалось Туркестанской серии, их задача свелась к подчеркиванию «пацифистского», «реалистического», «репортерского» и «патриотического» характера верещагинского творчества. В этом выставка на Крымском Валу была во многом похожа на ту, что годом раньше была представлена в Русском музее, также сопровожденная всевозможными этнографическими аксессуарами: от ковров до изразцов. Как восторженно писала по этому поводу критика, «Верещагин в итоге не столько давит на совесть, сколько предлагает любоваться на “дивный Восток”». Пожалуй, даже Владимир Стасов, бывший при жизни художника его главным апологетом, представлял его фигуру многограннее, не говоря о советских авторах, таких, как Андрей Лебедев, которым приходилось заниматься эквилибристикой между критикой колониальной политики царизма и «марксистским» признанием «объективного блага», несомого в феодальные колонии «более развитой» цивилизацией. В этом отношении новейшая выставочная верещагинская история скрыла гораздо больше, нежели показала.
Согласно Эдварду Саиду, особое значение в истории ориентализма имело его укоренение в авторитетных институциях: именно академии наук и художеств, университетские кафедры, живописные и литературные салоны придавали словам о «Востоке» ауру убедительности. Множество подобных институций дошло до нашего времени и вынуждено определять позицию в отношении своего проблемного прошлого. Скажем, коллекции искусства колонизированных стран, оказавшиеся в Лувре и затем перемещенные в Музей на набережной Бранли, продолжают ставить перед музеологами нелегкую задачу их критичного представления. Институт восточных языков и цивилизаций в Париже (в число которых, кстати, включены русский, украинский и польский языки), несмотря на былой мандат на изучение «Востока», также стал одним из основных очагов постколониальных исследований Франции.
 От голубой розы к золотому гранату. Фрагмент экспозиции© Ольга Казакова
От голубой розы к золотому гранату. Фрагмент экспозиции© Ольга КазаковаНа схожей развилке оказался и московский Музей искусства народов Востока. Музей был создан через год после Октябрьской революции, когда большевики с их глобальным универсалистским проектом стремились развенчать миф о «застывшем Востоке». В частности, на азиатские страны возлагались особые надежды в связи с ожидаемым крушением западных империй и дальнейшим распространением в мире коммунистических идей (на этот счет Ленин еще в 1913 году опубликовал программный текст «Отсталая Европа и передовая Азия»). Фактически и Музей искусства народов Востока, и созданный чуть позднее Коммунистический университет трудящихся Востока были частью плана, по ходу осуществления которого Востоку и Западу предстояло опровергнуть Киплинга и слиться в единое коммунистическое целое. Однако, стремясь разрушить одни стереотипы, большевики продолжали пользоваться другими: ведь их рассмотрение множества разнообразных и непохожих друг на друга стран и регионов мира под этикеткой «Востока» было очевидно ориенталистским.
Эта безграмотность, невообразимая в современном университетском контексте, характерна для классического ориентализма, для которого существенной оставалась лишь одна граница — между Востоком и Западом, тогда как различия «восточных регионов», от Марокко до Ирана или от Монголии до Индонезии, чудились условными и второстепенными.
Со временем план грандиозного переустройства планеты с устранением «Востока» и «Запада» ушел на задний план: после ухода с авансцены Троцкого план мировой революции был замолчан, а со смертью Сталина — похоронен. Однако Музей искусства народов Востока остался. Судя по постоянной экспозиции и выставкам, которые здесь проходят, музей видит охранную грамоту своего существования в сохранении ориенталистского статус-кво с делением мира на две противоположные онтологические сущности. Вполне возможно, что именно этим объясняется последняя мутация его названия: расплывчатую множественность («Музей искусства народов Востока») сменила монолитная чеканность времен Гете и Байрона: «Музей Востока». Среди областей бывшего СССР «восточными» здесь, по имперской традиции, продолжают считать регионы Кавказа и Средней Азии.
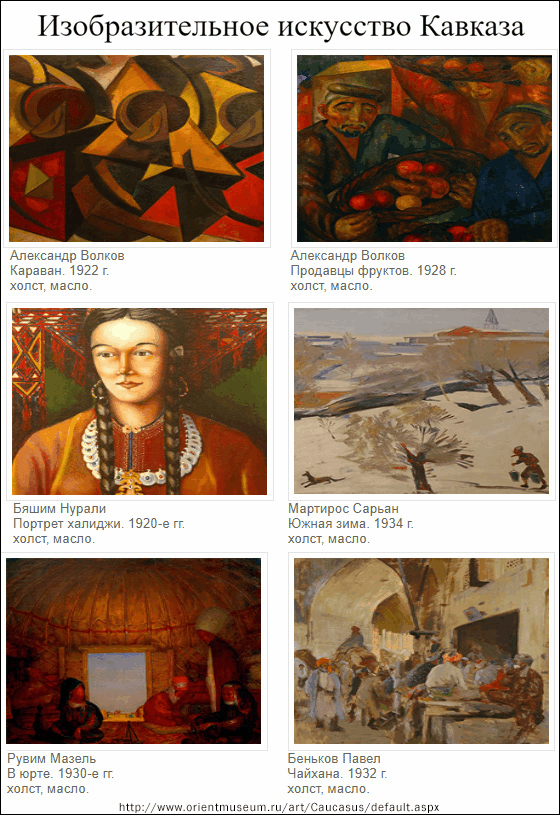
Скриншоты с сайта Государственного музея Востока, раздел «Искусство Кавказа, Средней Азии и Казахстана»
Оказываясь в зале искусства Средней Азии и Кавказа XX века, испытываешь естественное недоумение по поводу объединения Пиросмани, Бенькова, Сарьяна и Волкова в одном пространстве. Настенные комментарии не оставляют сомнений в ориенталистской природе произведенной селекции: «На территориях Кавказа и Средней Азии, исторически связанных с Россией, через русскую культуру происходил диалог Востока и Запада». Взгляд из Москвы на художников с различными творческими траекториями как на представителей некоей «восточной общности» утрированным образом предстает и на сайте музея. В секции Кавказа музейная веб-страница «Искусство Кавказа, Средней Азии и Казахстана» представляет картины Александра Волкова, Бяшима Нурали, Рувима Мазеля и Павла Бенькова, а в секции Средней Азии — живопись Минаса Аветисяна и Акопа Акопяна. Несуразный визуальный винегрет сопровождается сумбурным текстом: например, искусство Азербайджана рассматривается в разделе Средней Азии. Эта безграмотность, невообразимая в современном университетском контексте, характерна для классического ориентализма, для которого существенной оставалась лишь одна граница — между Востоком и Западом, тогда как различия «восточных регионов», от Марокко до Ирана или от Монголии до Индонезии, чудились условными и второстепенными. Ту же поразительную глухоту к специфике и собственной истории локусов Средней Азии и Кавказа проявляют и московские музеологи, для которых главным остается подвести всех работавших в этих регионах художников под общий «восточный знаменатель».
Кроме жеманной поэтичности, с которой зачастую представляют «восточное искусство», здесь бросалась в глаза типично ориенталистская ассоциация «Востока» со «способностью воспринимать действительность во всей полноте ощущений» — словно бы таковая и впрямь была подзабыта «людьми Запада» с их воображаемыми ориенталистами «рациональностью» и «прагматизмом».
Временные выставки музея мало отличаются от постоянной экспозиции. Например, осенью 2018 года в его залах проходила персональная выставка армянской художницы Мариам Асламазян. На входе в виде преамбулы фигурировали отрывки из автобиографических размышлений, в которых Асламазян писала: «Я очень люблю Восток, людей Востока, их быт и нравы. С Востока началась человеческая культура, и он сохранил свои традиции до наших дней». Подобный текст, свидетельствующий об ориенталистской закодированности взгляда художницы в определенный исторический период, никак не откомментирован кураторами, что свидетельствует о том, что они сами экзальтированно смотрят на культуру и искусство сквозь те же ориенталистские очки. Неудивительно, что экспозиция, комбинировавшая произведения художницы с декоративно-прикладной утварью из собрания музея, была выстроена по тем же этнографическим лекалам, что и выставка Верещагина на Крымском Валу.
 Мариам Асламазян. Истории солнечных цветов. Фрагмент экспозиции© Борис Чухович
Мариам Асламазян. Истории солнечных цветов. Фрагмент экспозиции© Борис ЧуховичВ «Алисе в Зазеркалье» Кэрролла многим памятен эпизод сна Алисы, видящей во сне Черного Короля, которому снится Алиса, видящая во сне Черного Короля: в итоге границы реальности и воображения совершенно размывались. Примерно то же ощущение навевала выставка «От голубой розы к золотому гранату», организованная в марте—апреле 2018 года Музеем Востока в сотрудничестве с Третьяковской галереей, Фондом Марджани и Саратовским художественным музеем. Подзаголовок — «Образ Востока в русском искусстве первой половины ХХ века» — звучал вполне в духе исторической постколониальной литературы, сосредоточенной на изучении образов и фикций, владевших умами людей различных эпох и культур. Однако первая половина названия навевала сомнения в серьезности исторического замаха, указывая на то, что авторы экспозиции находились не извне, а внутри ориенталистского дискурса.
 От голубой розы к золотому гранату. Фрагмент экспозиции© Ольга Казакова
От голубой розы к золотому гранату. Фрагмент экспозиции© Ольга Казакова«Голубая роза» в названии, конечно, отсылала к художественному объединению конца 1900-х годов: некоторые его члены питали интерес к тому, что в их эпоху понимали под «Востоком». Однако «золотой гранат» явно был плодом воображения самих музеологов. Как объяснила во введении к каталогу куратор выставки Светлана Хромченко, золотой гранат «символизирует потребность и способность художника вдохновляться действительностью, воспринимать ее во всей полноте ощущений и воплощать как живописную драгоценность». Кроме жеманной поэтичности, с которой зачастую представляют «восточное искусство», здесь бросалась в глаза типично ориенталистская ассоциация «Востока» со «способностью воспринимать действительность во всей полноте ощущений» — словно бы таковая и впрямь была подзабыта «людьми Запада» с их воображаемыми ориенталистами «рациональностью» и «прагматизмом».
Очевидно, что вместо исторического исследования эволюции образов «Востока» после Серебряного века кураторы задались обратной задачей: представить то, что им самим показалось «восточным» в творчестве отобранного круга художников.
Заглавие полностью соответствовало содержанию каталога, где Восток как образ и Восток как онтологическая реальность, как матрешки, укладывались друг в друга. С одной стороны, здесь обращают на себя внимание немногочисленные цитаты о Востоке, взятые из текстов художников («Их пронизывает скромными жилками откровение Востока — бирюза» — Петров-Водкин, «Самаркандия»). С другой, куратор перманентно пишет о Востоке от первого лица (из жизнеописания Исупова: «На Восток попал, будучи мобилизованным в армию, в 1915 году». Не в конкретный населенный пункт (точнее — в Ташкент) — а именно «на Восток»). Это наслоение делает цитаты из исторического материала исследовательской фикцией. Очевидно, что вместо исторического исследования эволюции образов «Востока» после Серебряного века кураторы задались обратной задачей: представить то, что им самим показалось «восточным» в творчестве отобранного круга художников. Их главным аргументом стала атрибуция в творчестве этих живописцев некоего специфически «восточного колорита». Скажем, у Волкова «восточным» названо «колористическое ощущение восточного мира, “общей музыки цвета”», у Татевосяна — «специфически восточные краски: бирюза, шафран, розовато-малиновая марена», у Еремяна — соседство «вариантов авангарда, реализма, пленэра, напоенных цветом, светом и воздухом Востока», у Карахана — «отзвуки восточных миниатюр» в «ясных очертаниях фигур, локальном мажорном колорите» и «тщательности письма». Художники в этом ориенталистском Зазеркалье невольно стали медиумом, выводящим на поверхность подсознание самих кураторов.

От голубой розы к золотому гранату. Фрагмент экспозиции
© Анна Броновицкая
Эта обратная перспектива отчетливо видна в комментарии, помещенном кураторами под темперой Усто Мумина «Жених» из коллекции Музея Востока. Согласно ему, «композиция навеяна не только символическими образами восточной лирики, но и отсылает к одному из основных сюжетов мусульманского религиозного предания — чуду ночного путешествия и вознесения Пророка (ал-Исра ва-л-Ми'радж)». Немало факторов заставляет думать, что кораническая интерпретация является плодом воображения авторов экспозиции. Во-первых, путешествие Мухаммеда осуществилось ночью и существо, пронесшее его до Иерусалима, конвенционально изображалось женщиной-кентавром с крыльями и павлиньим хвостом — ничего общего с утренней эскападой муминовского всадника на скакуне с ясно выраженной маскулинностью. Во-вторых, сам Мумин никогда не артикулировал фантастической ассоциации своей темперы с упомянутым преданием из Корана и хадисов. В-третьих, несмотря на принятие ислама, которое, по всей видимости, было следствием стремления художника, подобно Гогену, вжиться в роль автохтона, работы Мумина 1920-х годов вообще не содержали прямых отсылок к Корану. В-четвертых, «Жених» органично вписывался в «любовный гомоэротический цикл» с собственными поэтикой и кругом сюжетов. Однако историческому анализу кураторы предпочли свободное фантазирование, переплавив муминовский Самарканд в некий абстрактный Ориент далеких времен. Таким образом, если стремиться к точности, подзаголовок названия выставки должен был бы звучать так: «Образ Востока в фантазиях российских кураторов ХХI века».
 Александр Николаев (Усто Мумин). Жених. 1928. Холст, темпера© Государственный музей Востока
Александр Николаев (Усто Мумин). Жених. 1928. Холст, темпера© Государственный музей Востока* * *
Можно убедиться в том, что современная российская музеография продолжает культивировать наиболее архаические стороны ориентализма, делая ставку на онтологические различия Запада и Востока, а также на демонстрацию «особого пути» России, лавирующей между этими двумя «сущностями». По сути, речь идет об откате к лексике и приемам ориентализма XIX века, и трудно понять, чего здесь больше — Данилевского с Достоевским или Мединского с Сурковым. Ведь, в отличие от университетов, российские музеи подчинены Министерству культуры, а оно взяло курс на формирование позитивного образа российской истории, якобы не омраченной колониальными смыслами и практиками. Вполне возможно, что в ситуации жесткого идеологического регулирования музейным работникам при обращении к теме «русского Востока» остается либо напрямую выражать новейшие российские идеологемы, либо апеллировать к ложной этнографической достоверности, салонному мистицизму или поэтическому жеманству.
[1] Все цитаты куратора Светланы Капыриной взяты из онлайн-экскурсии по Туркестанской серии, помещенной на сайте ГТГ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202427233 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202425502 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202428333 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202434205 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202434762 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202437323 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202438050 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202443626 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202443252 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202438750 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials