 Современная музыка
Современная музыкаШумов & Борзыкин. «Правильно»
Лидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета
19 ноября 20211500 Зельфира Трегулова и о. Тихон Шевкунов на открытии выставки© Музейно-выставочное объединение «Манеж»
Зельфира Трегулова и о. Тихон Шевкунов на открытии выставки© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Формально выставка «Моя история. XX век. От великих потрясений к великой Победе», организованная Патриаршим советом по культуре и уже закрывшаяся, и выставка «Романтический реализм», сделанная одними из наиболее востребованных культурных менеджеров 2000—2010-х Зельфирой Трегуловой и Эдуардом Бояковым, — две разные экспозиции об одной эпохе, которые (так совпало) открылись в одно время, в День народного единства, в одном месте — Центральном Манеже. Но по факту ресентиментный блокбастер на основе фотографий и цитат, в котором церковь берет реванш за унижения ХХ века и благодарит за это сильную власть в любых ее проявлениях (наверху), и эксперимент в области нового мифотворчества на материале советской живописи середины 1920-х — середины 1940-х годов (внизу) относятся друг к другу как половинки листа в известной сюрреалистической игре «изысканный труп»: первый участник рисует часть картинки, сгибает лист и передает его второму, который, не подглядывая, продолжает рисунок. Лист разворачивают, смотрят, что получилось: если все принимают правила, результат не разочаровывает — чаще всего выходит монстр из двух разных (также и по стилю) половинок, которые чудесным образом всегда подходят друг другу, «рождая новые смыслы» (или, как любят говорить в Патриаршем совете по культуре, «проясняя утраченные»).
Поэтому, когда на открытии Зельфира Трегулова, куратор выставки и действующий директор Третьяковской галереи, делала индивидуальную экскурсию по экспозиции «Романтического реализма» для архимандрита Тихона (Шевкунова), которого не будет ошибкой считать неназванным куратором «Моей истории», было видно, что хотя выставки друг с другом в деталях явно не согласовывались, но у кураторов, и светского, и церковного, не было причин быть недовольными друг другом.
Но «документальность» живописи заключена именно в ее материальных свойствах — не в формалистическом смысле, а в том, что она не родилась, невесомая, из пены пропаганды, а была именно что произведена.
Со времени капковского расцвета Манеж как культурное пространство занимает как бы двоякую позицию. Он был охраняемой ФСО площадкой, которую используют для съездов «Единой России» и других нужд федерального значения. Одновременно он вошел в состав Музейно-выставочного объединения «Манеж», которое сыграло важную роль в интеграции принадлежащих городу выставочных пространств в как бы неидеологизированную, чисто потребительскую циркуляцию современной культуры. Смычка «Романтического реализма» и «Великих потрясений» впервые так ясно показала возможность симбиоза двух этих обычно разведенных во времени и пространстве функций. Организация городских культурных площадок с кафе, книжными и образовательными программами (именно в этом духе Трегулова модернизирует Третьяковку) и затратная, требующая медийного ресурса массовая пропаганда (выставки Патриаршего совета по культуре, а заодно с ними «Романтический реализм» рекламируются в каждом вагоне метро и по центральному телевидению, а вход на них бесплатный, что обеспечивает небывалую посещаемость) — вещи, которые могут не только сосуществовать в параллельных мирах, как бы не замечая друг друга, но и взаимно обогащаться.
Кроме инфраструктурного взаимодействия «свободного» культурного города и церковно-государственной пропаганды замечательно сходство кураторских техник интеллектуалов из Патриаршего совета по культуре и таких организаторов современной культуры, как Бояков и Трегулова. И в первом, и во втором случае в работе с материалом сознательно не делается разницы между интерпретацией и спекуляцией. То, что подается как интерпретация, то есть указание на до сих пор неочевидные связи, не становится инструментом высвобождения мысли, но должно сработать как ослепительное откровение. Когда-то у антисоветского тамиздатовского журнала «Посев» был слоган «А я ничего этого и не знал» — в этом роде работает и выставка «Великие потрясения», и это первый такт воздействия. «Но и дальше я хочу ничего не знать» — так можно сказать про выставку «Романтический реализм», и это второй такт.
 © Музейно-выставочное объединение «Манеж»
© Музейно-выставочное объединение «Манеж»И на первом, и на втором уровне Манежа «факты» монтируются в убедительную связь, а разрывы монтажа оказываются скрыты в окутывающей полутьме экспозиций и склеены комментариями (наверху по выставке экскурсии водят священники, внизу вместо экскурсий — разъясняющие тексты Боякова), и не так важно, что на церковной выставке в роли фактов выступают фотоснимки и цитаты из речей и мемуаров политических и культурных деятелей, а на светской — тематические станковые картины. В отличие от авангардного монтажа, где смысл появляется в пробелах между вырезанными из контекста и так и не спаянными в целое элементами, оставляя на виду механику смыслопорождения, здесь надерганный из «источников» нарратив сливается в величественную реку исторической логики, откровения которой взялись «воссоздать» организаторы. И ни на одной биеннале цоколь Манежа не видел таких качественных фальшстен.
Один из важных элементов кураторской практики, сложившейся вокруг советской тематической картины, находящейся в распоряжении фондов РОСИЗО и других собраний, из которых вещи традиционно заимствуют (в том числе Музея Вооруженных сил, Музея современной истории России (бывший Музей революции), Русского музея), — это отношение к живописному станковому объекту не как к вещи, в какой-то момент произведенной и существующей с тех пор материально и изобразительно, содержа некую истину о себе именно на этом уровне. Вместо этого к картине относятся как к особому типу исторического источника, который, с одной стороны, позволяет судить о прошлом как о реально бывшем (то есть фантазировать о нем как о реальности, к которой мы имеем доступ), а с другой стороны, по самим своим свойствам (художественный, а не документальный объект) дает дозволение на спекуляцию, то есть на «интерпретацию», понятую не как ответственное суждение или указывание, а как волюнтаристская выдумка, мотивирующая некую политическую стратегию. Но «документальность» живописи заключена именно в ее материальных свойствах — не в формалистическом смысле, а в том, что она не родилась, невесомая, из пены пропаганды, а была именно что произведена.
 © Музейно-выставочное объединение «Манеж»
© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Тут можно возразить, что такой способ эксплуатировать тематическую картину заложен в самой этой картине, так же как в ее судьбе заархивированной единицы хранения, и как следствие — в сложившейся вокруг этой тематической картины современной кураторской практике, определяющей способы активного использования архива РОСИЗО в последнее десятилетие. Это такая практика, которая позволяет выуживать находящиеся в распоряжении архива работы тематически, тасовать как колоду, ориентируясь на их «воображаемое» содержание, что позволяет составлять почти из одних и тех же объектов довольно разнообразные высказывания.
История этих высказываний начинается с либерально-фантазийной интерпретации, трактующей социалистический проект семиотически («Коммунизм: фабрика мечты», кураторы Борис Гройс, Зельфира Трегулова, Франкфурт-на-Майне, 2003—2004 гг.). По известной версии Гройса, «стиль сталинизма» становится злой диалектической насмешкой над намерениями художников авангарда.
Продолжается эта история социал-демократической интерпретацией, в которой коммунистическому проекту возвращается освободительно-политическое измерение («Борьба за знамя: советское искусство между Троцким и Сталиным. 1926—1936», куратор Екатерина Дёготь, Новый Манеж, 2008 г.). Тут художники, работающие с изобразительной «темой», рассматриваются не как слепые орудия пропаганды, введенные в заблуждение либо двуличные агенты доминирующего стиля, но как самостоятельные политические акторы со своими — плюралистическими и сознательными — стратегиями и намерениями.
 Зельфира Трегулова© Музейно-выставочное объединение «Манеж»
Зельфира Трегулова© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Почти сразу же после «Борьбы за знамя» Зельфира Трегулова курирует на основе картин из РОСИЗО выставку «Соцреализм: инвентаризация архива» (ММСИ, 2009—2010 гг.), в которой следует более умеренному либеральному объяснению этих объектов как не лишенных исторического и художественного интереса памятников пропаганды, которые нужно читать не буквально, а между строк, сводя вопрос авторства к госзаказу.
Наконец, новейшей переинтерпретацией тематического архива РОСИЗО становится обсуждаемый здесь «Романтический реализм», уже откровенно консервативный проект Боякова и той же Трегуловой, внутри которого знакомые объекты перетолковываются как опять же лишенные авторства части однородного дискурса, подлежащие бесконечному переприсвоению, — и тут знакомые образы представлены как магически воздейственные участники великой, но все же благой иллюзии, которую требуется не разоблачить, а, наоборот, восстановить.
Помимо перечисленных идеологических переинтерпретаций картины с «Романтического реализма», принадлежащие архиву РОСИЗО и некоторым другим музейным собраниям, в последнее время встречались на множестве менее политически артикулированных выставок, которые просто обеспечивали заполнение обширных пространств МВО «Манеж» еще в период, когда им управляла Марина Лошак. Так, на «Романтическом реализме» найдутся старые знакомые с выставок «Рабочие и колхозницы» (2013 г., выставочный зал «Рабочий и колхозница») и «Венера советская» (2012—2013 гг., там же). Но на выставках 2012—2013 годов эти картины использовались не как документы, а как пестрые пассеистические содержания экзотизируемого в развлекательных целях прошлого. «Выставка переносит образ античной богини любви и красоты в советскую эпоху, прослеживая эволюцию образа советской красавицы» — в контексте «Венеры советской» пименовская девушка в гамаке представлялась коммерческим пинапом, а не элементом впечатляющего биополитического проекта, как на «Романтическом реализме», куда она перекочевала. Сумма прочитанных на уровне содержания объектов, оказавшихся в распоряжении системы новых площадок, позволяла, таким образом, формировать новые и новые тематические подблоки и соответственно новые содержания для разнообразного культурного потребления.
 Юрий Пименов. Женщина в гамаке. 1934. Из собрания Государственного Русского музея© Музейно-выставочное объединение «Манеж»
Юрий Пименов. Женщина в гамаке. 1934. Из собрания Государственного Русского музея© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Тематический подход использовался и для внутренней организации этих выставок, приходя на смену унылому хронологическому. Скажем, в основе выставки Екатерины Дёготь лежало разделение по демократическим пространствам коммунизма, понятым также в качестве медиа (секции «площадь», «газета», «труд», «полет»). На тематическом объединении (не только живописных) артефактов того же периода из собраний разных музеев построена недавняя выставка «Авангард и авиация» (2014 г., Еврейский музей и центр толерантности, куратор Александра Селиванова): она делится на разделы «пространство», «машина», «герой».
Но если у Дёготь в оглавление экспозиции вынесены именно пространства всеобщего, а у Селивановой — элементы авиации, понятой не просто как «одна из» возможностей, но как сфера, фундаментальная для футуристически-техницистского дискурса исследования и преодоления, то в случае «Романтического реализма» тематизация разделов выглядит как фантастическое ассорти, складывающееся в утраченную иллюзию величия, которую так хочется склеить обратно. И, с другой стороны, разделы представлены Бояковым не как равноценные элементы, а как некое развитие со своей кульминацией: «создание мифа», «образ вождя», «Красная армия», «поэтизация труда», «ввысь», «новый человек», «новое тело», «праздники, встречи», «на Восток», «территория счастья», «архитектурная утопия», «герои» и венец всему — «Великая война», пункт, в котором противоречивое движение через залы истории обретает свой высший финальный смысл.
 Раздел выставки под названием «Великая война» открывается картиной Павла Корина «Александр Невский» (1942, из собрания Государственной Третьяковской галереи)© Музейно-выставочное объединение «Манеж»
Раздел выставки под названием «Великая война» открывается картиной Павла Корина «Александр Невский» (1942, из собрания Государственной Третьяковской галереи)© Музейно-выставочное объединение «Манеж»В экспликациях к выставке Трегуловой и Боякова представленный материал нигде не обозначен как соцреализм — и это правильно, поскольку в строгом смысле, если понимать соцреализм как очень конкретный канон и тип живописного произведения, там его почти нет, не считая нескольких работ Василия Ефанова и Александра Герасимова. Но в интервью иначе как соцреализмом кураторы свой материал не называют. При этом периодизация картин — от середины 1920-х до середины 1940-х — охватывает время задолго до того, как в 1934 году была сформулирована сама концепция социалистического реализма, и тем более задолго до того, как (около 1936 года) в результате направляющей, по большей части апофатической (то есть отклоняющей и корректирующей, но не предлагающей своих вариантов) партийной критики художниками был найден идеальный изобразительный эквивалент этого понятия.
Пресса, разбирающая «Романтический реализм», тоже говорит о «соцреализме», оставаясь по большей части равнодушной к тому, что под эту шапку подверстываются вещи, связанные не общей историей с началом и концом, как этого бы хотел Бояков, а общей полемикой, у которой не было финала. Но критики просто продолжают получать удовольствие от насмешек над тем же Исааком Бродским как якобы заядлым конъюнктурщиком и «плохим искусством вообще». Между тем Бродский вместе с остальной АХРР (объединением, в которое он входил) в 1936 году был разгромлен идеологом соцреализма Владимиром Кеменовым за натурализм в передовице «Правды». Убийственный выпад против натурализма следовал через неделю после передовицы о формализме, которую постсоветское искусствоведение помнит куда лучше. Но вспомнить о критике натурализма значило бы отказаться от привычного противопоставления ценного авангарда и вторичного, политически ангажированного фигуративизма, что, в свою очередь, сильно осложнило бы возможность спекуляций на этот счет.
Между тем заседания и митинги Бродского пора наконец перечитать не как вялые академические перепевы передвижничества, а как очевидно модернистскую по языку модификацию станковой картины, натуралистический фотореализм — то есть как определенное соотношение тематической живописи и новых медиа. Потому и пишет Бродский II конгресс Коминтерна, Ленина на Путиловском заводе и другие свои картины-митинги так, как будто стоит в задних рядах толпы с фотокамерой, отделенный от далекой фигурки вождя морем затылков в кепках; это совсем не театральный канон ефановской «Незабываемой встречи», парадной сценической репрезентации, по-балетному развернутой грудью в зал.
 Эдуард Бояков© Музейно-выставочное объединение «Манеж»
Эдуард Бояков© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Но именно игнорирование принципиальных различий между разными объектами и тем, что эти объекты внутри себя делают, позволяет Боякову протянуть свою историю дальше 1930-х, к 1940-м, включив «великую войну», которая становится смысловым итогом всей этой мифологической мобилизации, — здесь и должен раскрыться высокий смысл симпатичных ему иллюзий. Про евангельские псевдоиконологические фантазии в экспликациях, сочиненных Бояковым, написано было уже достаточно: это пародия на постсоветское искусствоведение, которое, впрочем, своей необязательностью и тягой к сакрализации иконологического анализа само подготовило почву для подобных издевательств, когда Святой Дух начинает пульсировать чуть ли не в персиках у Сарьяна, традиционные траурные пальмы из Колонного зала устанавливают преемственность с картинами Руссо, а граница между враньем и искусствоведением оказывается невосстановимо нарушена.
По экспозиции, за которую отвечал Эдуард Бояков, видно, что для него нет разницы между гиперреализмом Бродского и АХРР, структурно-пространственными инновациями в станковой картине, которыми были заняты члены ОСТа и Изобригады (Дейнека, Зернова, Пименов, Купцов и другие), чьи картины преобладают в первых залах, натурализмом Лактионова, за который ему постоянно доставалось от советской критики, неофовизмом Сарьяна и всеми другими вариантами фигуративизма, которые относятся к совершенно разным не только стилям, но и типам организации, самоорганизации и встроенности художников. Это и есть результат отношения к картине как к теме, которое позволяет нейтрализовать собственные свойства живописного объекта и вписать его в любые построения, не обращая внимания на его очевидное сопротивление, — то есть попросту бесконечно проституировать живописные объекты.
 © Музейно-выставочное объединение «Манеж»
© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Екатерина Дёготь объясняла введение тематического подхода как принципиально прогрессивное: ее задачей было противопоставить фигуративизм второй половины 1920-х — первой половины 1930-х, который отбрасывали как плохое, ангажированное, идеологизированное, а главное, антимодернистское искусство, — формальным работам очевидных модернистов, работавших в то же время (будь то, например, Клюн или Шевченко), показав, что антикварному отношению к объекту можно противопоставить тематическое, но не в духе славистов-семиотиков, для которых еще с 1980-х все содержания действительно сводились к историческому луна-парку тропов, а как политически активное искусство, сознательное, а не манипулятивное, наделенное индивидуальной политической волей и интонацией, не сводящееся к безличной функции инструмента пропагандистского заговора: в общем, воспринять сюжет не «постмодернистски», а буквально, как предложение, на которое можно согласиться — как и отвергнуть.
Но, как сейчас видно, тематически-инструментальный подход к этому архиву стал развиваться в ином направлении. И если «Борьба за знамя», как писала Дёготь, старалась уйти от товарно-формалистического вопроса «как», поставив вопросы «что» и «о чем», то теперь, чтобы остановить проституирование беззащитных объектов искусства, следует поставить все эти вопросы одновременно, добавив к ним вопросы «кем, с кем, для кого и для чего». Короче, выйти из противопоставления формы и содержания на уровень станковой картины как объекта, сделанного в определенных условиях и обладающего определенными качествами, которые определяют его статус до сих пор, и кроме того — объекта, произведенного находящимися в определенных отношениях субъектами, не лишенными воли и понимания, хотя бы их объекты и не жили той жизнью, которую те для них первоначально предполагали.
То, что подается как интерпретация, то есть указание на до сих пор неочевидные связи, не становится инструментом высвобождения мысли, но должно сработать как ослепительное откровение.
Тут возникает еще один сюжет этой истории — госзаказ. В комментариях к архиву РОСИЗО и к выставке «Романтический реализм» Трегулова постоянно говорит о госзаказе и в последнее время — о госзаказе как о «нормальной ситуации», якобы повторяющейся для художников во все времена. С другой стороны, пресса, критикующая Трегулову, тоже отталкивается от идеи «госзаказа» как от порочного истока, определяющего принципиальную двуличность этого архива и стертость в нем любой самоопределяющейся, субъективной интенции.
Но это еще одна подтасовка: в 1920-е, к которым принадлежит огромное множество работ с выставки, госзаказа, как он понимается авторами выставки, не существовало, а если что-то и дискутировалось среди теоретиков пролетарской культуры, то это соцзаказ — то есть некая потребность или запрос общества, на которую художник так или иначе отвечает, что бы он ни делал в буржуазном или коммунистическом мире. Задача стояла сделать этот ответ сознательно-классовым, а не «стихийным», как в рыночном искусстве, с которым связывали картину как отдельный объект-товар; отсюда идеи о том, каким образом живописцы могут взаимодействовать со структурами нового государства, через которые предполагалось вступить в отношения с общественным интересом. Отсюда идея тематической выставки, родившаяся у АХРР и поддержанная, например, Изобригадой.
 Министр культуры РФ Владимир Мединский и Зельфира Трегулова на открытии выставки© Владимир Вяткин / РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский и Зельфира Трегулова на открытии выставки© Владимир Вяткин / РИА НовостиИдея же госзаказа, так нравящаяся Трегуловой и Боякову — для которых это явно не только исторический концепт, но и нечто весьма актуальное, — связана с фетишизацией сильного государства как такового и подчинением ему воли художника, что не могло присниться ни одному самому ортодоксальному марксисту. Государство понималось как временная структура, предназначенная к отмиранию, пусть даже если отмирание начало серьезно откладываться; из этого исходили теоретики марксизма и вслед за ними — художники. Если госзаказ в теоретизировании художников насчет своей роли в ситуации социалистического производства и возникал, то скорее в качестве госмеценатства, как переходный момент в изменении статуса ремесленного медиума живописи в условиях индустриальной мобилизации. Но не как заказ, что исходит от могущественной тоталитарной структуры, Левиафана, делающего предложение, от которого невозможно отказаться, а как заказ «общественной организации», которая институционально опосредует социальные интересы производящего класса, а вовсе не является фетишем сама по себе, как это выходит у Боякова и Трегуловой.
Подмена идеи соцзаказа госзаказом в связи со связыванием в гладкий нарратив очень разных живописных объектов от ОСТа и АХРР до Лактионова и Ефанова приводит к стиранию из этой истории воли художника как политического актора и производителя, свободного в те времена хотя бы в том, что на начальных этапах он самостоятельно, исходя из своих профессиональных умений, формулировал свое предложение для тех институций, с которыми имел дело, будь то РККА или Наркомпрос — оно могло быть, опять же, принято или отвергнуто, но это уже другой вопрос. И нужно смотреть на эту ситуацию не как на госзаказ, а как на взаимное изучение формулирующих свое предложение производителей и находящихся в становлении институций, которое действительно в какой-то момент кончается выработкой узнаваемого соцреалистического канона. Но в чистом виде этот канон в продукции художников en masse не преобладал даже в 1930-е — это видно по любой коллекции реализма провинциальных музеев.
 © Музейно-выставочное объединение «Манеж»
© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Что касается большей части картин, представленных на «Романтическом реализме», то они как раз являются разными версиями предложений, которые — как формалистические или натуралистические — были отсечены в процессе формирования канона. Но хитрость в том, что Трегулова и Бояков никогда не взялись бы строить новый миф только из канонических работ соцреализма — такой зал был на выставке Гройса, и это выглядело как чистый постмодернизм, его бы никто не принял всерьез. Ведь слухи о могуществе соцреализма сильно преувеличены: в момент застывания канон теряет силу, становясь воспроизводящейся формой, а соцреализмом можно назвать только такой застывший канон, который способен констатировать, распространять и поддерживать, но не конструировать новое.
И ОСТ, и АХРР вместе по сути представляли собой полемизирующий с ЛЕФом проект по выживанию и реактуализации ремесленного медиума живописи, профессионалами которого они являлись, в условиях массового мобилизационного индустриального общества c машинным производством. И их предложение заключалось в тематической и, что важно, документальной, а не мифотворческой, картине как некоем новом типе объекта (концепция «сделанности» у теоретиков ОСТа, с отвращением писавших в своих декларациях о небрежном «псевдоимпрессионизме» эпигонов передвижничества, который вообще-то и лег в основу настоящего соцреалистического канона). Эта картина не должна была существовать как отдельная товарная единица, циркулирующая на свободном рынке, но должна была формировать «тематическую выставку» как способ наилучшим образом проработать общественно-действенную тему, причем для тех же остовцев тема не была просто чисто литературным нарративом, но мотивировкой для разработки пространственных аспектов фигуративного изображения на новых, учитывающих материальность медиума основаниях; отсюда постоянное внимание к объектам индустриальной архитектуры, военной технике или спорту как двигательно-пространственным способам совершенно иначе, чем в академической или реалистической живописи, освоить картинную плоскость.
 © Музейно-выставочное объединение «Манеж»
© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Но, конечно, противоречие лежало в «заказе общественных организаций» на станковые произведения изначально. Часть работ, которые производились в 1920-е — начале 1930-х, оказалась в коллекциях только что созданных нехудожественных музеев — таких, как Музей революции и Музей Вооруженных сил. Они опять-таки носили скорее документальный, информационный и репрезентативный, а не мифотворческий характер — в конце концов, это была современная, десакрализованная живопись, и если того же Бродского в чем-то и упрекали, так это в недостаточной парадности и чрезмерном буквализме.
Что касается деятельности членов ОСТа и Изобригады, то и до, и после войны она реализовывалась в значительной степени не в станковом, а в прикладном искусстве, полиграфии и монументалистике, станковизм же был для них скорее промежуточным, трансферным пунктом между разными, в том числе индустриальными, медиумами. Не сводилась к вопросу отдельной картины и деятельность АХРР, которая много внимания уделяла репродуцированию и распространению образов.
 © Музейно-выставочное объединение «Манеж»
© Музейно-выставочное объединение «Манеж»Сама же по себе станковая картина, переставшая быть «товарной формой», могла найти себе место только внутри общественной организации, музейного нарратива или в рамках отдельного, ограниченного во времени высказывания, которым были тематические выставки. Множество картин, по сути, оставалось после конца этих экспозиций (или в случаях вроде несостоявшейся выставки «Индустрия социализма») в положении сирот — эти «сироты» и легли в основу архива РОСИЗО, создав материальную базу для описываемой в этой статье кураторской практики. Забавно, что после «Постановления об излишествах» именно эта шаткость статуса станкового полотна привела к стремительному опрокидыванию соцреалистической художественной номенклатуры и переориентации всей инфраструктуры художественного заказа на прикладные сферы монументального и полиграфического искусств, в которых старые остовцы, в отличие от «настоящих» соцреалистов, смогли успешно реализовать свой профессионализм в условиях хрущевской модернизации.
Обширное наследие монументалистики, где также важна тематическая составляющая — будь то тема труда, спорта, нового человека и полета (все это темы прежде всего пространственные, связанные с освоением не только космических пространств, но и пространства листа, стены), — не встраивается с такой легкостью в идеологические выставочные спекуляции, как это происходит с несчастными картинами из архива РОСИЗО. Монументальная мозаика, например, приписана к общественной функции здания, и ее сложнее диффамировать, как это можно сделать с полотном. Похоже, тут виновата сама отдельность и институциональная неприкаянность тематической станковой картины — самого противоречивого звена советской системы искусства.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаЛидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета
19 ноября 20211500 Современная музыка
Современная музыкаНовый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца
18 ноября 2021195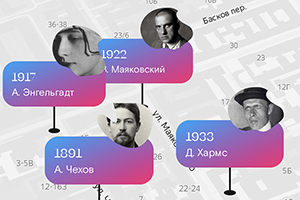 Театр
Театр Общество
ОбществоО чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко
18 ноября 2021199 Кино
Кино Театр
Театр Литература
Литература Colta Specials
Colta SpecialsЭбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века
16 ноября 2021220 Colta Specials
Colta SpecialsПеред лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией
16 ноября 2021181 Академическая музыка
Академическая музыка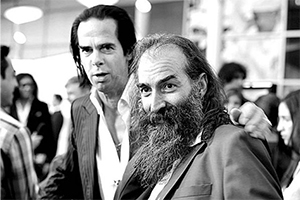 Современная музыка
Современная музыкаВ книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата
16 ноября 2021177 Академическая музыка
Академическая музыка