 Кино
КиноВыверните карман
 © Colta.ru
© Colta.ruИздательство «Каспар Хаузер» опубликовало новую книгу Григория Дашевского: посмертно. Стихи, вошедшие в нее, автор отобрал сам, в последние месяцы жизни. Вся книга вместилась в двенадцать стихотворений, в каждом из них речь подходит к самому пределу, за которым остается невозможность речи и мысли.
Этот предел прочерчен так строго и четко в одном из стихотворений сборника, что остальные образуют вокруг него как бы облако знаков, проявляющихся ясно из позиции предела. Это стихотворение «Нарцисс», точнее, его вторая редакция. Со времени первой редакции прошло тридцать лет, в которые уместилась практически вся жизнь Дашевского как поэта. Написанное в 1983 году стихотворение, по свидетельству автора, рассказывает о прогулке на кладбище. В письме от 3 февраля 2009 года он пишет:
Про «Сон» хочется с Вами поговорить подробнее и расспросить. Я его только сейчас перечитал — а не перечитывал много лет. Это был первый рассказ Кафки, который я прочел по-немецки — летом 1982 года — и не понимал половины фраз, только ярко увидел саму эту картину: могила, плита, буквы. Сейчас перечитав, эту картину вспомнил — и только теперь понимаю, что я наверно запомнил из рассказа это сочетание неуверенности в том, жив ты сам или нет (собственно содержание сна — «ты думал, что ты жив, а на самом деле ты умер» — поэтому и плачет (возвращаясь к науке: верно я понял, что во всех Ваших примерах [1] неопределенность сон/явь коррелирует с неопределенностью жив/умер?)), и надписи на могильной плите — когда через полгода сочинял длинное стихотворение — которое, правда, описывает реальную прогулку под дождем по Донскому кладбищу (его нет в книжке [2], но есть на Полутонах, в самом конце, если Вы не видели. Там совсем слабое начало, но все-таки какой-то есть ритм и какое-то ощущение, из-за которых я это стих-ие решил все-таки не элиминировать окончательно) — ну в общем, понятно.
Но в Вашей фразе, что пока «Сон» бодрствует, Йозеф К. не умирает, есть что-то страшно утешительное, буду ее помнить.
Исход этой прогулки автор и переписывает во второй редакции. Начало стихотворения остается тем же, а изменяются две последние строфы:
|
И небо бледно, как Нарцисс, Он и глазевший точно рыбка |
И вот вокруг становится темно. На что весь вечер просмотрел он |
«Он не дышит», воображаемое Нарциссом на дне ручья видение собственной смерти, превращается в «блаженно дышит», в дыхание Нарцисса, глядящего в светлое отражение на водной поверхности. Говорящий теперь уже смотрит не вглубь ручья, а на самого глядящего на отблеск в воде. Воображение собственной смерти как источник непрекращающейся рефлексии (эта рефлексия не может прекратиться, потому что на собственную смерть нельзя посмотреть задним числом, испытать ее можно только один раз) сменяется наблюдением за собственным отражением, постепенно угасающим в сгущающихся сумерках, пока оно не исчезает в темноте. Темнота же неотличима от того, что видно внутри закрытых глаз, когда внешнее зрение сливается с темнотой тела. Эта наступающая темнота, которую можно осознать и описать, сменяет во второй редакции стихотворения невозможность осознания смерти.
Приближение к пределу, а не попытка осмыслить предел — тот внутренний момент, вокруг которого вращаются стихи новой книги Дашевского. Забытье, темнота приближаются к пониманию того предела, за которым кончается жизнь, но все же речь о них не заменяет и не подменяет речи о собственной смерти. Граница между жизнью и смертью в приближении к смерти воспринимается как граница между сознанием и бессознательностью, и размышления о ней принимают разные формы в новой книге Дашевского. Одна из этих форм выражается на тематическом уровне в стихотворениях о границе между явью и сном: «Чужого малютку баюкал», переводы из Суинберна, Хопкинса, Фроста. В переводе «Сада Прозерпины» Суинберна смерть сливается со сном в строке «Что мертвый не проснется» (а не «воскреснет», как в оригинале: «That dead men rise up never»).
Приближение к пределу, а не попытка осмыслить предел — тот внутренний момент, вокруг которого вращаются стихи новой книги Дашевского.
О статусе переводов в этом сборнике нужно сказать отдельно. Дашевский и раньше переводил стихи так, что они становились частью его собственных книг (в «Думе иван-чая», «Генрихе и Семене») [3]. В новом сборнике переводы отличаются от прежних тем, что при большой семантической близости к оригиналам они обращаются свободно с границами переводимых текстов: перевод из «Сада Прозерпины» ограничивается одной (предпоследней) строфой, из «Пепельной среды» Элиота — всего несколькими строками. Перевод словно бы нащупывает пределы внутри чужого стихотворения, до которых он может дойти, и отделяет то, что оказывается за этими пределами. Свой принцип как переводчика поэзии (именно поэзии) Дашевский однажды объяснил так:
А принцип «перевода» здесь такой — если я вижу, «откуда взято» чужое стихотворение, то есть вижу трехмерное тело, проекцией которого является данный латинский текст [4], то я могу построить свою проекцию того же самого тела на свою плоскость — моего языка, времени, ситуации и пр. Я не ставлю здесь оговорок «мне кажется» или «по-моему», потому что такая операция возможна только при полной уверенности (декартовской очевидности) — другое дело, что эта уверенность может быть самообманом [5].
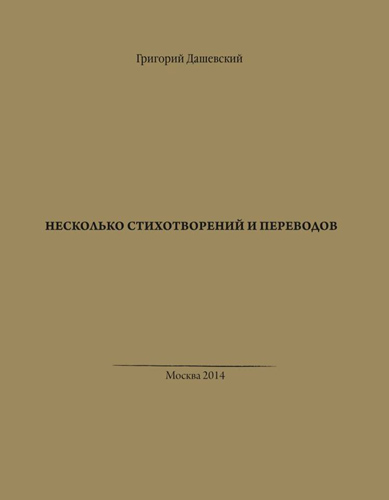 © Издательство Каспар Хаузер
© Издательство Каспар ХаузерЦельность замысла оригинала, которую Дашевский здесь удивительно называет «телом» (живым? платоновским? небесным? возможно, их совокупностью), осознать которую необходимо прежде перевода, в его новой книге оказывается заключенной во фрагментах, как если бы автор с уверенностью выделял что-то законченное в течении речи оригинала. Проекцию на отдельный язык здесь можно сравнить с перенесением местности на карту. В течении речи оригинала он сперва выделяет тот остров или тот залив, который потом переносит в рисунок собственной мысли и собственного текста. То, как важно оказывается для этих переводов выделение пределов и необходимости умолчаний в них, отметил Николай Эппле:
Две последние строчки из фрагмента Элиота Дашевский не перевел — и это, наверное, самый пронзительный из его переводов, какой-то совершенно запредельный жест волевого безучастья, превращения чужого слова в действие.
Pray for us sinners now and at the hour of our death.
Pray for us now and at the hour of our death. [6]
Возможно, стоит добавить к этому прочтению, что дело не только и не столько в безучастии, сколько в том, что слова Элиота о «часе смерти» очерчивают тот предел, до которого именно что не может дойти мысль об умирании, не изменив себе. В строках из «Пепельной среды» глаз переводчика выхватывает цельность этой мысли, мысли о конечности размышления, натыкающегося на смерть как на крайний предел. Выделив эту мысль, поэт проецирует, переносит и осуществляет ее в цельности собственного перевода-стихотворения, остающегося целиком по эту сторону смертного часа.
То, что смерть как предел была той конечной точкой, к которой стремилась и от которой отталкивалась мысль Дашевского, проявляется (словно фотография из негатива) и в его самом последнем стихотворении. Это стихотворение он в сборник не включил:
Благодарю вас ширококрылые орлы.
Мчась в глубочайшие небесные углы,
ломаете вы перья клювы крылья,
вы гибнете за эскадрильей эскадрилья,
выламывая из несокрушимых небесных сот
льда хоть крупицу человеку в рот —
и он еще одно мгновение живет [7].
По свидетельству Михаила Гронаса, последнюю строку Дашевский приписал позднее, а Гронасу, доверенному читателю, он показал это стихотворение без нее. Тогда как все стихотворения, собранные в книге, говорят о приближении к последнему пределу, этот отдельно стоящий текст исходит из движения в обратную сторону, обозначая и удерживая ту последнюю малость, которая отделяет смерть от жизни и не может быть преодолена без скачка. Само стихотворение, само продолжение речи, а не только метафорически описанное в нем продолжение речи, приращивает к жизни — жизни человека и жизни поэта — еще несколько слов.
Это стихотворение в сочетании с книгой складываются как бы в образ и его отображение, в котором по правилу зеркальной симметрии стороны повторяют друг друга, но меняются местами. Их соответствие исходит из существования самого предела. Как водная гладь, необходимая для немой рефлексии Нарцисса и рассказа об этой рефлексии, речь об умирании нуждается в речи о продлении жизни для созерцания предела между ними. В 2011 году Дашевский написал комментарий к стихотворению Александра Блока «Похоронят, зароют глубоко», в котором говорит о симметричности образов, отражающих жизнь и смерть. Стихотворение построено на фигуре умолчания, пишет Дашевский: на умолчании о Страшном суде, который мог бы отделить вечное страдание от вечной жизни. Это умолчание оказывается залогом продолжения существования, которое нельзя разделить на только муку или только жизнь:
Здесь, пожалуй, надумаем мы, Что под жизнью беспутной и путной разумели людские умы — наконец, прямо (пусть эпитетами, ослабленными до максимальной незначительности: путная вместо праведная, беспутная вместо грешная) названо то, о чем все это время речь шла только подразумеваемая, — названы два варианта жизни, которые могли бы привести к двум вариантам вечности — случись Суд, беспутная жизнь привела бы в вечную муку, путная — в вечную жизнь; но вечного наказания и вечной награды не будет, саморазделение на беспутную и путную жизнь — всего лишь выдумка людских умов, разбираться в которой при жизни, то есть пока длились восторг и тоска, любовь и мука, не было времени и охоты.
Сомнение в Страшном суде и становится тем пределом, который позволяет Блоку разделить эпитеты (пусть и ослабленные) на симметрично-противоположные. Не так устроен предел в поздних стихах и переводах Дашевского, хоть и они тоже полагаются на существование зеркальных образов. Этот предел существует не как моральная категория в стихотворении Блока, а скорее так, как существует этическое обязательство переводчика в отношении языков: переводы должны соответствовать оригиналу, но не должны его ни имитировать, ни, наоборот, отрицать [8]. Перевод и оригинал должны складываться вместе так, чтобы сама разница языковых ситуаций, особенных и отдельных для автора и для переводчика, становилась в них ощутимой, причем достигается это зачастую минимальными средствами.
Примером такого открытия разницы между языками может служить перевод предсмертного стихотворения императора Адриана. В отличие от других переводов сборника, в этом тексте дается название (точнее, первая строка фрагмента, не имеющего названия) в латинском оригинале, «Animula vagula blandula». Это включение оригинала в перевод не случайно и не произвольно, а связано с тем, что перевод следует оригиналу, делая упор на его фонетическом рисунке: «застылая, голая» отражают уменьшительный суффикс «-ula» звучанием, а не грамматикой. Отвечая на вопрос читателя о том, что же случилось с уменьшительными суффиксами в переводе, Дашевский ответил, что русский язык по отношению к латинскому и сам уже уменьшительный. Этот комментарий можно понимать и как описание формального принципа (передача уменьшительного суффикса прямым фонетическим переносом), и как замечание об историческом статусе современной поэзии в сравнении с античной (поэзия сегодняшняя воспринимается как что-то ничтожно малое по отношению к колоссам классики). Формальный ход в этом переводческом решении оказывается фигурой большого сдвига, произошедшего в самой парадигме поэзии со времен античности. То, что достигается изъятием строк в переводах из Суинберна и Элиота, здесь достигается наложением и частичным совпадением в фонетике двух языков. Не нарушая этического принципа точности, эти переводы переносят чужой опыт в собственный. И именно этот перенос позволяет Дашевскому приблизиться к почти непроницаемой черте: черте, отделяющей рефлексию от собственного характера, пределу, не позволяющему человеку увидеть себя самого целиком, а только, как Нарцисс, в отражении рефлексии.
В этом предсмертном сборнике, фиксирующем убывание, речь человека почти вплотную подходит к той цельности жизни, которая вся вмещается в разницу между речью вообще и речью собственной, и чем ближе к этому пределу, тем более отчетливо и обособленно звучит эта речь.
Григорий Дашевский. Несколько стихотворений и переводов. — М., Каспар Хаузер, 2014. 20 с.
[1] Речь шла о моем докладе, в котором я говорю о рассказе «Сон» Франца Кафки.
[2] Имеется в виду «Дума иван-чая».
[3] Об этих стихотворениях-переводах, особенно о роли Катулла, я писала в статье «Собственная история» в журнале «Воздух».
[4] Элегии 4.7 Проперция.
[5] http://partr.livejournal.com/147038.html (14 мая 2007 г.)
[6] «Молись за нас, грешных, теперь и в час нашей смерти. / Молись за нас теперь и в час нашей смерти». «Памяти Дашевского» (20 декабря 2013 г.).
[7] Написано 1 декабря 2013 г.
[8] Об этом — этическом — согласии перевода с оригиналом говорит и Игорь Гулин в заметке о новом сборнике Дашевского: «Согласие это, конечно, и этимологическое — совместное звучание, и этическое — говорение “да”» («Ясность потери»).
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Кино
Кино Литература
Литература Общество
ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»
25 января 20229379 Искусство
Искусство Литература
Литература Кино
КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау
21 января 20228824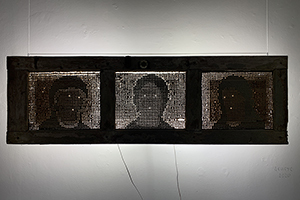 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Театр
Театр Литература
Литература Современная музыка
Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь
20 января 20229081 Академическая музыка
Академическая музыка