 Современная музыка
Современная музыка«НОМ». «Страшно жить на этом свете»
Петербургские постпанк-концептуалисты посвятили новый альбом поэтам-обэриутам: премьера песни на стихи Николая Олейникова
26 марта 2021169
К 90-летию со дня рождения композитора Николая Каретникова (1930–1994) Издательство Ивана Лимбаха выпускает сборник его мемуарной прозы «Темы с вариациями». COLTA.RU публикует предисловие Ольги Седаковой к книге.
Эти очаровательные новеллы (или вспышки воспоминаний, или анекдоты в старинном смысле слова) не хочется отягчать вступительными рассуждениями. Они написаны легкой рукой. Они совершенно свободны от злополучного «писательства». В них нет всей тяжелой «писательской» мебели: описаний, пейзажей, интерьеров, портретов действующих лиц — совсем нет, и это удивительно! Как удержаться от того, чтобы не сказать хоть пару слов об облике Федерико Феллини или Марии Юдиной, Генриха Нейгауза или Дмитрия Шостаковича, которых ты видел так близко, в таких занятных поворотах? Но Николай Каретников не отвлекается от сюжета своих новелл. Он не отвлекается на обобщающие размышления (они оставлены догадливому читателю), на отступления, лирические или исторические. Все происходит быстро, начинается непринужденно и кончается, как правило, неожиданным парадоксом, финальной пуантой (она-то и запоминается больше всего). Чистота жанра. Это никак не лаконизм: в лаконическом письме мы всегда слышим что-то натянутое, а здесь — простота и непринужденность. Это просто блестящее искусство рассказа. Николай Каретников, избравший в музыке самую строгую систему композиции — серийную додекафонию, и в своих словесных композициях, где, как он предупреждает, автор «не придумал ни одного слова», держит в уме целое. Это значит, в частности: у вещи (словесной так же, как музыкальной) есть начало, конец и объем. Можно быть «писателем» и очень мало знать об этих трех основополагающих свойствах искусства. Обращу внимание на одну деталь: искусство заголовка. Прочитав название какой-нибудь из новелл этой книги — например, «Сентиментальное путешествие», или «Началось…», или «Муму (подражание Тургеневу)», — мы ожидаем чего-то совсем другого, нежели то, что расскажет автор. Но закончив чтение и вернувшись к названию, мы вдруг читаем заголовок иначе — и, соответственно, иначе читаем сам эпизод, который нам рассказали. Как будто на зеркало навели другое зеркало.
Да, эти истории написаны легкой рукой. Почти все они освещены улыбкой и полны комизма. В них не слышны ни обида на эпоху, ни ее обличение, ни, с другой стороны, тяжелый пиетет перед «великими» современниками (в самом деле великими, без кавычек). Но темы, на которые Н. Каретников пишет свои легкие словесные вариации, — в действительности тяжелые и без преувеличения страшные темы. Как страшна судьба тенора — и, вероятно, великого тенора — Ивана Кортова, отбывшего свою жизнь на Магадане («Пять рублей золотом»). Мы слышали и читали множество таких историй жизни и едва ли не привыкли к этому сюжету. Меньше описан другой кошмар эпохи: когда в семье друзей тебя (именно тебя лично, рассказчика) считают осведомителем и в этом качестве принимают, а выясняется это через долгие годы («Время было такое»). Но в «феноменологии эпохи» (как назвал свои рассказы Каретников) есть еще одна черная дыра. Ее можно назвать политикой перевоспитания искусства. Когда я впервые посмотрела французский документальный фильм «Запрещенные ноты», он произвел на меня сильнейшее, сопоставимое с лагерными рассказами впечатление. Почему вдруг борьба с диссонансами, секундами и септимами оказалась делом партии и правительства? Это был, как мы знаем, не более чем эпизод тотальной идеологической цензуры, о которой все уже устали слушать. Но то, что политическая цензура входит в области, которые ну никак не должны были бы ее интересовать, а платят за это внимание государства к музыкальным интервалам жизнью, возможностью творческой работы, правом на преподавание (или же душой и даром — в случае согласия на предложенные условия), — вот это не перестает поражать. То, что невеждам и тупицам предоставлена неограниченная власть над профессионалами и гениями, — вот это не перестает поражать. Николай Каретников учился как раз во время великой борьбы с диссонансами. Самые значительные и зрелые свои сочинения ему не пришлось услышать — он первым или одним из первых у нас стал писать в додекафонной технике, а это было за пределами дозволенного. До нынешнего дня он известен по преимуществу как автор киномузыки. К такой творческой судьбе мало кто готов. У многих одаренных людей недостает сил ее вынести (я знаю это по людям моего поколения, поэтам самиздата, отлученным от публичности). Каретников рассказывает о собственных хождениях по официальным мукам, об уроках, которые ему давало начальство (чего стоит один рассказ о «праве на трагедию»!), как будто издалека, оттуда, где вся эта жестокая дурь, которую требовалось безоговорочно принимать, уже ничего не значит. Феноменология времени.
 © Издательство Ивана Лимбаха
© Издательство Ивана ЛимбахаЯ не буду останавливаться на многих других темах Каретникова. Вспомню только две, важнейшие, без которых феноменология времени (вообще говоря, нескольких времен) была бы ущербной. Первая из них — свободные, одаренные, просвещенные люди, которые в этом мертвом воздухе как будто строят вокруг себя гнезда, где светит прежний и всегда новый свет, где веет ветер независимости, ума и вдохновения. Мы, жители этой эпохи, знаем, как много значило встретить в юности хотя бы одного такого не искореженного, не перевоспитанного человека. Он открывал тебе вкус свободы и личного достоинства. Может быть, лучше здесь другой образ: не вкуса, а некоего камертона, который тебе дарили и с которым ты всегда мог сверить происходящее. Николай Каретников дает увидеть этих других людей как бы в моментальных снимках, в коротких эпизодах, в их ситуативных — и чаще всего забавных — словах, которые записала его память. В мире всеобщего советского воспитательства они антидидактичны. Они сами готовы учиться (рассказ о том, как Г. Нейгауз принял новую венскую школу). Каретников связывает этих своих учителей и старших друзей с традицией дореволюционной русской интеллигенции. С этой же традицией, с ее наследованием он связывает своих друзей уже другого поколения — Александра Галича и отца Александра Меня. Каретников, как уже говорилось, вообще избегает обобщений, но здесь он позволяет себе общее наблюдение, очень интересное и неожиданное: этих других людей отличали от прочих привязанность к жизни, умение любоваться и наслаждаться ею. И это правда: никем еще, кажется, не высказанная правда. Советский человек, советский художник обязаны были быть бодрыми и оптимистичными, но простая радость бытия была у них как будто ампутирована. Их никто не научил необходимому для этого навыку: расслабить мышцы души. Бдительность и мобилизация — какая же тут радость бытия?
Упомянув имя отца Александра Меня, я касаюсь важнейшей для книги Николая Каретникова (и важнейшей для меня) темы: истории веры (в данном случае — личного прихода к вере) в советское время. Н.С. Хрущев и шестидесятники (начавшие в конце пятидесятых) спорили о многих вещах (см. об этом рассказ «Манеж»), но в одном они безусловно сходились: в боевом атеизме и антиклерикализме. Молодой авангардный поэт предлагал синеглазому иноку альтернативу его скучной, постной жизни:
Эх, вприсядку,
Чтоб пятки в небеса!
Уж больно девки падки
На синие глаза.
Предложение, с которым молодой Н. Каретников собирался обратиться к молодому и тоже синеглазому («глаза цвета вылинявшего василька») священнику, наверняка не было таким лихим (новелла «Началось…»). Он хотел вернуть «сбившегося с пути» в мир современности, в двадцатый век. В храме во время каждения он решил «напасть на него», «посмотреть ему прямо в глаза», «смутить и призвать к сомнению». Он встал для этого перед «подходящей иконой». Изумительно описана Каретниковым история его обращения. Молодой священник, на которого он «напал», смущая прямым взглядом, «несколько секунд смотрел мне в лицо совершенно спокойно, тихо. Затем в его глазах промелькнуло выражение едва заметной мгновенной боли и тут же исчезло, его взгляд опять был светел». Успешный молодой композитор, «автор уже двух симфоний, комсорг Московского союза композиторов» — так описывает себя тогдашнего Каретников — понял, что нечто произошло. Он увидел «такое глубокое, чистое, истинное смирение, о существовании которого я никогда до того не имел и не мог иметь ни малейшего понятия». Точно замечено: «и не мог иметь» — откуда? Все вокруг были другими. Рассказчик сгорел со стыда, ему «захотелось избавиться от себя самого и всех своих громко и пусто гремевших побуждений». «Избавиться от себя самого»! То, что рассказывает Каретников, на церковном языке называется покаянием и обращением. Не ты решаешь, что хорошо бы покаяться и возвратиться к «вере отцов», — что-то совсем непредвиденное ударяет тебя в сердце, и ты понимаешь, что прошлое кончилось. Все будет другим. Сам Каретников называет эту встречу «первым уроком», от которого «началось обучение души». Да, такое или близкое этому и влекло к вере и церкви тех, кого оно настигало в эту эпоху воинственного атеизма, который уже не силой и страхом навязывался людям, как в предыдущих поколениях, а впитывался из воздуха, как говорится, с молоком матери и первыми детскими песенками. Мир тихой и кроткой силы, какой-то необъяснимой милости и тонкой душевной науки. Этим миром были наполнены редкие тогда действующие храмы, в которых на службах стояли главным образом простые старушки. Там душа могла дышать своим, другим воздухом. Митрополит Антоний Сурожский, которого мы тогда читали в самиздатских списках, любил повторять, что в Бога нельзя поверить, пока не увидишь Его в глазах другого человека. Это случилось с Николаем Каретниковым. Я надеюсь, что такие встречи возможны и теперь, что и теперь человека может привести к церковной вере именно это, потому что именно по этому скучает его душа, — хотя на публичной поверхности современной церкви ничего похожего на такого молодого сутулого батюшку, пожалуй, не увидишь.
Печально говорить о прошлом как о прошлом: было такое, теперь другое. Еще печальнее говорить о том, что это прошлое снова прорастает в настоящем, как посеянные в наших полях зубы дракона. Книга Николая Каретникова, написанная легкой рукой, не о прошлом. В этом ее освобождающая радость. Это редкое свидетельство, своего рода «наш патент на благородство». Новейшая русская литература оставила нам впечатляющий образ одаренного и просвещенного человека эпохи (скорее, уже 70-х годов), наследника старой русской интеллигенции — сломленного, предавшего себя и ушедшего с головой в море цинизма. Ничего, кроме цинизма, человеку в таком положении не остается. Я имею в виду главного героя «Пушкинского Дома» Андрея Битова. Вероятно, статистически этот образ очень представителен. Книга Николая Каретникова позволяет нам встретить другое и «нетипичное», редкое: человека, сохранившего душу и достоинство в том воздухе, где это почти невозможно. Возможно чудом, как все настоящее.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаПетербургские постпанк-концептуалисты посвятили новый альбом поэтам-обэриутам: премьера песни на стихи Николая Олейникова
26 марта 2021169 Общество
ОбществоКлассик американской литературы расспрашивает итальянского писателя об опыте Аушвица и о времени после войны, которое оказалось для Леви самым счастливым
26 марта 2021131 Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноРежиссер «Ампира V» и «Generation П» — о своем первом фильме, хронике пробуждения советского эроса «Нескучный сад». Его покажут на «Артдокфесте»
25 марта 2021264 Театр
Театр Литература
Литература Театр
Театр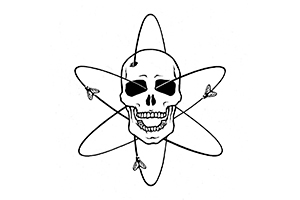 Современная музыка
Современная музыкаНовые альбомы «Кровостока», «Сольвычегодска», «ИЛЬЯМАЗО», Loqiemean, Mujuice и другие громкие отечественные релизы месяца
24 марта 202176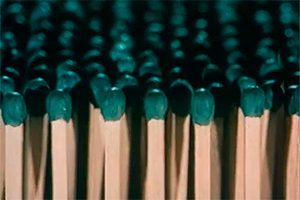 Искусство
ИскусствоИсторик медиа Наталья Тихонова и мультипликатор Иван Максимов — о зарождении абстрактного фильма в СССР
24 марта 2021361 Современная музыка
Современная музыка Искусство
ИскусствоРоссийско-американский художник Николай Кошелев интерпретирует дягилевские сезоны в живописи и керамике
23 марта 2021206 Академическая музыка
Академическая музыка