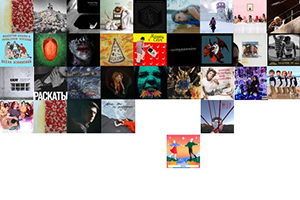Книга, фрагмент которой сейчас у читателей перед глазами, — одна из последних, вышедших при жизни ее автора, замечательного немецкого прозаика, больше тридцати лет прожившего и умершего в Великобритании. До внезапной смерти через два года от сердечного приступа за рулем автомобиля (в 2001-м) у него был опубликован еще только сборник написанных по-английски стихов и роман «Аустерлиц» (читающим по-русски, к счастью, уже известный в переводе Марины Кореневой [1]). Что заставило писателя в расцвете сил и славы обратиться в своих Цюрихских публичных выступлениях, легших в основу книги, к катастрофическим событиям более чем полувековой давности, очевидцем которых он, родившийся в баварской глуши в мае 1944 года, даже не был?
Решусь предположить — как минимум две вещи. Первая: «я, так сказать, родом из этой войны» — с характерной деликатной оговоркой признает Зебальд (добавлю, что его беременная им тогда мать пережила-таки в Бамберге одну из бомбардировок союзнической авиации, которые стали потом темой зебальдовской книги). Вторая — многолетнее и едва ли не полное молчание о тогдашних сокрушительных событиях в общедоступной и общеизвестной немецкой словесности, включая прославленных писателей «Группы 47», манифестарно заявлявших в свое время, что они пришли в послевоенную литературу, чтобы воссоздать, как все было. «…Беспримерное национальное унижение, выпавшее <…> на долю миллионов, — пишет Зебальд, упоминая буквально единичные исключения, — никогда по-настоящему не находило словесного выражения, и люди, непосредственно его изведавшие, не делились пережитым ни друг с другом, ни с теми, кто родился позже».
О мотивах подобного умалчивания, также, замечу, умалчиваемых, Зебальд в своей книге пишет — в частности, на материале жизни и творчества одного из создателей «Группы 47», известного писателя Альфреда Андерша (его проза на русский переводилась). Этой гримировке, а то и пластической хирургии собственной биографии и общей истории Зебальд — по году рождения принадлежащий как бы к «детям» или «племянникам» переживших или прошедших войну Андерша и Носсака, Белля и Клуге, Грасса и Энценсбергера — в своих лекциях противостоит. И бережно поднимает на свет, скрупулезно приводит, дотошно пересказывает разрозненные, но все же сохранившиеся то здесь, то там свидетельства о перенесенной тогда немцами исторической и биографической травме. Читать многие из этих страниц не просто тяжело — нестерпимо. Написать такое нужно было решиться и суметь.
Дело здесь во многом (хотя и не только) в том, что события такого содержания и масштаба, которые стало принятым и даже чуть ли не расхожим теперь называть «травмой», по самому свойству противятся выговариванию, осознанию, меморизации. Слепота, немота, беспамятство — реакция отдельного и группового сознания на подобный трудновыносимый опыт, своего рода болевой шок. Он преодолим, но не сразу, не во всем, не всеми. Кроме того, не менее важно другое: о стыде, унижении, беде, о ранах и смертях немцев — на фоне пережитого по вине их правителей и от рук их солдат народами Европы — долгое время было не принято даже заикаться ни им самим, ни другим, чужим. Ну и третье, о чем Зебальд тоже пишет, — это корректировка собственного образа, «редефиниция самовосприятия», которая «для подавляющего большинства литераторов, остававшихся в годы Третьего рейха в Германии <…> была куда более неотложной задачей, нежели изображение реальных обстоятельств, которые их окружали».
И вот Зебальд берется — хотя бы в какой-то посильной и возможной для одного человека мере — преодолеть мощь всех этих как бы роковых причин и кажущихся несокрушимыми обстоятельств. Причин и обстоятельств, добавлю, косвенным образом сформировавших и его, вошедших, пусть сложно преломленным образом, в его собственный опыт живущего и стилистику пишущего. Не зря Сьюзен Зонтаг, видевшая в Зебальде одного из как будто бы вымирающей в нынешнюю эпоху породы особей — больших и «серьезных» (ее любимое слово) писателей, — отмечала, что в зебальдовской прозе «везде присутствуют картины уничтожения», а его «главная тема — упадок». Сам он находит для своей темы, больше того — ключевого мотива всего, что пишет, почти научную формулу: «естественная история разрушения» (под этим названием его книга печаталась и перепечатывалась в Великобритании, Голландии, Италии, Испании; в самой Германии она выдержала к нынешнему времени пять изданий).
В оптике и поэтике Зебальда, как мало у кого из его сверстников и современников, сошлись, говоря опять-таки словами Зонтаг, «одержимость историей» и «меланхолия сокрушений». С редким мастерством создаваемый писателем эффект документированной реальности — и перепись потерь, реестр угроз окончательно утратить последние ее, этой реальности, приметы. При всем этом бифокальная внимательность, спокойное достоинство и сдержанная печаль зебальдовской прозы — сознательный и последовательный контраст триумфально «возвышенному тону», ставшему, по Зонтаг, немалым подспорьем в крупноблочном мифостроительстве тоталитарной эпохи. Штучный, именной сплав горькой зебальдовской прозы — не только итог, но и урок.
Борис Дубин
Воздушная война и литература
Цюрихские лекции
Прием элиминации — это защитный рефлекс любого эксперта.
Станислав Лем. Мнимая величина
Ныне очень трудно составить себе хотя бы мало-мальски удовлетворительное представление о масштабах уничтожения немецких городов, которое происходило в последние годы Второй мировой войны, и еще труднее размышлять о кошмаре, связанном с этим уничтожением. Конечно, из «Обзоров стратегических бомбовых ударов» союзников, из сведений Федерального статистического ведомства и других официальных источников следует, что только ВВС Великобритании, совершив 400 000 вылетов, сбросили на вражескую территорию миллион тонн бомб, что из 131 города, подвергшегося однократной или неоднократным бомбардировкам, некоторые были почти полностью разрушены, что в Германии жертвами воздушной войны стали около 600 000 гражданских лиц, что были уничтожены три с половиной миллиона жилищ, что в конце войны семь с половиной миллионов человек не имели крова, что на каждого жителя Кельна приходилось 31,4 куб.м, а на каждого жителя Дрездена — 42,8 куб.м строительных обломков, но чтó это означало на самом деле, мы не знаем. Эта по сей день единственная в истории уничтожительная акция вошла в анналы возрождающейся нации лишь в форме туманных обобщений, словно бы не оставила заметного болезненного следа в коллективном сознании, практически исключена из ретроспективного личного опыта пострадавших, никогда не играла сколько-нибудь значительной роли в дискуссиях о внутреннем состоянии нашей страны и, как позднее констатировал Александер Клуге, так и не стала понятным обществу символом — ситуация весьма парадоксальная, если учесть, сколько людей день за днем, месяц за месяцем, год за годом подвергались бомбовым ударам и как долго, даже спустя много лет после войны, оставались лицом к лицу с ее реальными последствиями, умерщвляющими (такой вывод напрашивается сам собой) всякое положительное жизнеощущение. Несмотря на прямо-таки невероятную энергию, с какой люди после каждого налета сразу же принимались за восстановление мало-мальски «человеческих» условий, в городах вроде Пфорцхайма, который во время одного-единственного воздушного налета 23 февраля 1945 года потерял почти треть своих 60 000 жителей, даже после 1950-го на развалинах еще стояли деревянные кресты, а чудовищный смрад, с первым весенним теплом, как сообщала в марте 1947 года Дженет Фланнер, пробуждавшийся в зияющих подвалах Варшавы, сразу после войны, конечно же, наполнял и немецкие города. Однако в сознание уцелевших, которые оставались на месте катастрофы, он явно не проникал. Люди передвигались «по улице между жуткими руинами (так гласит запись Альфреда Дёблина, сделанная в конце 1945 года на юго-западе Германии), словно в самом деле ничего не произошло и <…> город выглядел так всегда». Оборотной стороной означенной апатии была декларация нового начала, бесспорный героизм, с каким все немедля взялись за работы по реорганизации и расчистке. В брошюре, посвященной городу Вормсу в 1945—1955 годах, мы читаем: «В это время требуются несгибаемые люди, чистые в своих помыслах и целях. Ведь и в будущем им не один год придется стоять на передовом рубеже возрождения». В текст, написанный по заказу городской администрации неким Вилли Руппертом, включено множество фотографий, в том числе и воспроизведенные здесь фотографии Кеммерерштрассе. Полное разрушение предстает здесь не как кошмарный финал коллективной аберрации, а, так сказать, как первая ступень успешного возрождения. По окончании беседы с руководством «ИГ Фарбен», состоявшейся во Франкфурте в апреле 1945 года, Роберт Томас Пелл протоколирует свое удивление по поводу немцев, к чьим заявлениям о готовности «возродить свою страну еще более великой и могучей, чем прежде» странно примешивались жалость к себе, раболепные самооправдания, оскорбленное чувство невиновности и упрямство, — свое намерение они в итоге осуществили, что легко увидеть на почтовых открытках, какие путешествующий по Германии может сегодня купить во франкфуртских газетных киосках и разослать из города на Майне по всему свету. Теперь уже легендарное и в определенном смысле действительно достойное восхищения возрождение Германии после разрушений, произведенных в войну противниками, оказалось равнозначно поэтапной второй ликвидации собственной предыстории, ведь, требуя огромных трудовых усилий и создавая новую, безликую реальность, оно изначально пресекало всякое воспоминание о прошлом, ориентировало население исключительно на будущее и обязывало его молчать обо всем, что с ним случилось. Немецкие свидетельства о том времени, отстоящем от нас меньше чем на срок жизни одного поколения, настолько скудны и разрозненны, что в сборнике репортажей «Европа в развалинах», изданном в 1990 году Хансом Магнусом Энценсбергером, смогли участвовать лишь зарубежные журналисты и писатели, представившие работы, которые, что характерно, до тех пор в Германии почти вовсе не принимались к сведению. Немногие немецкие статьи принадлежат бывшим эмигрантам или иным сторонним наблюдателям вроде Макса Фриша. Те, кто не уезжал из страны и, как, например, Вальтер фон Моло и Франк Тис в злополучном споре с Томасом Манном, охотно говорил о себе, что в тяжелую годину оставался на родине, тогда как другие со всеми удобствами сидели в Америке, однако, полностью воздержались от комментариев по поводу того, как происходило и закончилось разрушение, наверное, не в последнюю очередь из боязни, что реалистическими описаниями вызовут недовольство оккупационных властей. Вопреки общему мнению, современный дефицит памяти не восполнила и сознательно воссоздававшаяся с 1947 года послевоенная литература, от которой стоило бы ожидать хоть частичного раскрытия истинной ситуации. Если старая гвардия так называемых внутренних эмигрантов главным образом радела о создании себе нового имиджа и, как замечает Энценсбергер, в бесконечных затрепанных абстракциях взывала к идее свободы и гуманистическому западному наследию, более молодое поколение только что возвратившихся на родину авторов так зациклилось на собственных, то и дело сползающих в слезливую сентиментальность воспоминаниях о войне, что, похоже, толком не обращало внимания на заметные повсюду ужасы эпохи. Даже славная литература развалин, программно заявлявшая о честном и неподкупном изображении реальности и, по признанию Генриха Бёлля, ставившая перед собой прежде всего задачу рассказать, «чтó мы… застали по возвращении домой», при ближайшем рассмотрении оказывается уже настроенным на индивидуальную и коллективную амнезию инструментом, вероятно, управляемым полубессознательными процессами самоцензуры, — инструментом сокрытия мира, который более невозможно постичь. Подлинное состояние материального и нравственного разрушения, в котором пребывала вся страна, в силу молчаливого уговора, обязательного для всех и каждого, описывать было нельзя. В итоге самые мрачные аспекты заключительного акта разрушения, пережитого подавляющим большинством немецкого населения, так и остались позорным, табуированным семейным секретом, в котором человек, наверно, даже себе самому признаться не мог. Из всех созданных в конце 40-х годов литературных произведений, собственно говоря, только роман Генриха Бёлля «Ангел молчал» мало-мальски дает представление о глубине ужаса, грозившего тогда завладеть каждым, кто вправду всматривался в руины. С первых же страниц становится ясно, что именно это повествование, словно бы проникнутое неизбывной печалью, будет не по силам нынешним читателям, как полагали издательство и, пожалуй, сам Бёлль, потому-то книга и опубликована только в 1992 году, с почти полувековым опозданием. Семнадцатая глава, рассказывающая об агонии фрау Гомперц, действительно полна столь радикального агностицизма, что даже теперь одолеть ее непросто. Темная, клейкая кровь, толчками исторгающаяся на этих страницах изо рта умирающей, заливающая ей грудь, пачкающая простыню, стекающая с кровати на пол и образующая там лужу, — эта похожая на чернила и, как подчеркивает сам Бёлль, очень темная кровь есть символ направленной против воли к выживанию acedia cordis, тусклой, уже непреодолимой депрессии, в какую, собственно говоря, должны были бы впасть немцы перед лицом подобного конца. Кроме Генриха Бёлля лишь немногие авторы — Герман Казак, Ганс Эрих Носсак, Арно Шмидт и Петер де Мендельссон — дерзнули нарушить табу, наложенное на внешнее и внутреннее разрушение, хотя, как мы увидим ниже, большей частью весьма сомнительным способом. И когда в последующие годы специалисты по истории войны и Германии начали документировать гибель немецких городов, ситуация ничуть не изменилась, и картины ужасной главы нашей истории по-настоящему так никогда и не проникли за порог национального сознания. Эти компиляции, зачастую до странности безразличные к изучаемому предмету и выходившие, как правило, в более или менее отдаленных местах — например, «Огненная буря над Гамбургом» Ханса Брунсвига опубликована в 1978 году штутгартским «Моторбух ферлаг», — служили в первую очередь санации или устранению знаний, несовместимых с нормальным рассудком, и не были попыткой точнее разобраться в поразительной способности к самоанестезии, которую демонстрирует общество, вышедшее из истребительной войны как будто бы без заметного психического ущерба. Почти полное отсутствие мало-мальски глубоких нарушений в духовной жизни немецкой нации позволяет заключить, что новое федеративно-республиканское общество препоручило опыт, полученный в его предыстории, прекрасно функционирующему механизму вытеснения, что, с одной стороны, позволяет ему признать факт своего возникновения из абсолютной деградации, с другой же — целиком исключить все это из сферы своих эмоций, а глядишь, объявить очередной славной страницей в перечне того, что без малейших признаков внутренней слабости удалось успешно пережить. Как указывает Энценсбергер, «загадочную энергию немцев» не постичь, «если упорно противишься пониманию, что они возвели свой изъян в ранг добродетели». «Беспамятство, — пишет он, — было условием их успеха». Ведь предпосылками немецкого экономического чуда стали не только огромные инвестиции по плану Маршалла, не только начало холодной войны, не только разрушение устаревших промышленных сооружений, с тупым упорством произведенное бомбардировочными эскадрами, но и безропотная трудовая мораль, навязанная тоталитарным обществом, способность к логистической импровизации, характерная для стесненной со всех сторон экономики, опыт использования так называемой иностранной рабочей силы и в конечном счете оплакиваемая лишь немногими утрата тяжелого исторического бремени, которое в 1942—1945 годах сгорело в пожарах вместе с вековыми жилыми и конторскими зданиями в Нюрнберге и Кёльне, во Франкфурте, Ахене, Брауншвайге и Вюрцбурге. Таковы более или менее явные факторы становления экономического чуда. Катализатором стало, однако, нечто совершенно нематериальное: доныне не иссякший поток психической энергии, источником которого является хранимая всеми тайна трупов, замурованных в устои нашей государственности, тайна, которая связывала немцев друг с другом в послевоенные годы и связывает до сих пор куда крепче, чем их когда-либо связывал любой позитивный план, направленный, скажем, на осуществление демократии. Пожалуй, не мешает напомнить об этих обстоятельствах именно сейчас, когда уже дважды потерпевший неудачу общеевропейский проект вступает в новую фазу и сфера влияния немецкой марки — истории свойственно повторяться — расширится примерно до пределов территории, оккупированной вермахтом в 1941 году.
Если не считать заявлений нацистской прессы и радио, где постоянно твердили о садистских террористических налетах и варварских воздушных гангстерах, лишь крайне редко кто-либо вообще роптал на многолетнюю разрушительную кампанию союзников.
Был ли стратегически или морально оправдан — и если да, то чем — план неограниченной воздушной войны, поддержанный группировками в составе британских ВВС еще в 1940 году, а начиная с февраля 1942 года осуществлявшийся практически, при использовании колоссальных людских и военно-экономических ресурсов? В десятилетия после 1945-го, насколько мне известно, этот вопрос ни разу не становился в Германии предметом публичной дискуссии, в первую очередь, пожалуй, именно потому, что народ, уничтоживший и до смерти замучивший в лагерях миллионы людей, не мог потребовать от держав-победительниц информации о военно-политической логике, которая диктовала разрушение немецких городов. К тому же не исключено, что немалое число пострадавших от воздушных налетов — на это намекает, к примеру, очерк Ганса Эриха Носсака о гибели Гамбурга — при всем бессильном негодовании на явное безумие воспринимали исполинские пожарища как справедливую кару и даже как акт возмездия свыше, с которым не поспоришь. Если не считать заявлений нацистской прессы и радио, где постоянно твердили о садистских террористических налетах и варварских воздушных гангстерах, лишь крайне редко кто-либо вообще роптал на многолетнюю разрушительную кампанию союзников. Самые разные источники сообщают, что немцы смотрели на происходящую катастрофу в завороженном безмолвии. «Настало другое время, — писал Носсак, — и столь ничтожные различия, как различия между другом и недругом, уже не принимались в расчет». В противоположность большей частью пассивной реакции немцев на разрушение их городов, которое виделось им как роковая неизбежность, в Великобритании эта программа уничтожения с самого начала вызывала резкие споры. Не только лорд Солсбери и Джордж Белл, епископ Чичестерский, неоднократно и весьма настойчиво выражали свой протест и в палате лордов, и перед широкой общественностью, заявляя, что стратегия налетов, направленных в первую очередь против гражданского населения, недопустима ни с точки зрения права войны, ни с точки зрения морали и что даже ответственный военный истеблишмент расходится в оценке этого нового способа военных действий. Постоянная амбивалентность в оценке уничтожительного побоища стала еще отчетливее после безоговорочной капитуляции. Чем больше в Англии появлялось фотографий и статей о результатах коврового бомбометания, тем сильнее становилось отвращение к тому, чтó там, так сказать, вслепую натворили союзники. «В безопасности мирного времени, — пишет Макс Хастингс, — роль бомбардировщиков в войне оказалась такова, что многие политики и штатские предпочли бы ее забыть». Историческая ретроспекция тоже не внесла ясности в нравственную дилемму. В мемуарной литературе продолжались межфракционные распри, и оценка историков, задуманная как объективная и взвешенная, колеблется — от восхищения перед организацией столь масштабного предприятия до критики тщетности и предосудительности акции, наперекор рассудку, беспощадно доведенной до конца. Стратегия так называемого area bombing, сиречь бомбометания по площадям, порождена крайне маргинальным положением, какое Великобритания занимала в 1941 году. Германия находилась на вершине своего могущества, ее войска захватили весь континент и готовились продолжить вторжение в Африку и в Азию, а британцев, не имевших ни малейшей реальной возможности вмешаться, просто предоставить произволу их островной судьбы. Ввиду означенной перспективы Черчилль писал лорду Бивербруку, что есть только один способ вновь принудить Гитлера к конфронтации, «а именно абсолютно разрушительный, опустошительный удар самых тяжелых бомбардировщиков из нашей страны по территории Германии». Правда, предпосылок для осуществления подобной операции тогда отнюдь не было. Недоставало производственной базы, аэродромов, учебных программ для экипажей бомбардировщиков, эффективных разрывных зарядов, новых навигационных систем, а также практически любых форм опыта такого рода. Насколько отчаянным было положение в целом, доказывают фантастические планы, которые всерьез рассматривались в начале 1940-х годов. Так, например, подумывали сбрасывать на поля острые железные сваи, чтобы воспрепятствовать уборке урожая, а беженец-гляциолог по имени Макс Перуц проводил эксперименты в рамках проекта «Аввакум», в результате которого предполагалось построить из пикрета, то бишь искусственно усиленного льда, огромный непотопляемый авианосец. Едва ли менее фантастичны были в ту пору попытки выстроить заградительную сеть из невидимых лучей или сложные расчеты, сделанные в Бирмингемском университете Рудольфом Пайерлем и Отто Фришем и продвигавшие создание атомной бомбы в сферу возможного. Неудивительно, что на фоне таких замыслов, граничащих с утопией, куда более понятная стратегия бомбометания по площадям, которая, несмотря на низкую прицельность, позволяла вести военные действия на разных участках вражеской территории, в итоге одержала верх и в феврале 1942 года была одобрена решением правительства — с целью «подрыва морального состояния гражданского населения и, в частности, промышленных рабочих». Эта директива, вопреки непрестанным уверениям, родилась отнюдь не из стремления быстро закончить войну посредством массированного применения бомбардировочной авиации; скорее это была вообще единственная возможность вмешаться в войну. Впоследствии спешно форсированную программу уничтожения критиковали (также и с учетом количества собственных жертв) главным образом за то, что ее не свернули даже тогда, когда уже появилась возможность совершать несравненно более точные, избирательные налеты — например, на шарикоподшипниковые заводы, нефтяные и топливные предприятия, транспортные узлы и главные магистрали, — которые, как отмечал в своих воспоминаниях Альберт Шпеер, могут в кратчайшие сроки вызвать сквозной паралич всей системы производства. Как отмечено в критике масштабных бомбардировок, уже весной 1944-го стало ясно, что, невзирая на непрекращающиеся налеты, мораль немецкого населения сломить не удалось, промышленное производство уменьшилось лишь незначительно, а конец войны не приблизился ни на йоту. И коль скоро стратегические цели операции не претерпели изменений и едва выпущенные из училищ экипажи бомбардировщиков продолжали «играть в рулетку», стоившую жизни шести десяткам на сотню, тому, на мой взгляд, есть причины, которым официальная историография уделяет крайне мало внимания. Прежде всего, операция таких материальных и организационных масштабов, как наступление бомбардировочной авиации, поглотившая, по оценкам А.Дж.П. Тейлора, треть британского военного производства, имела настолько высокую собственную динамику, что краткосрочные коррективы курса и ограничения почти исключались, тем более в период, когда после интенсивного трехлетнего расширения производственных предприятий и наземной базы она достигла своего апогея, то есть максимальной разрушительной мощности. Просто бросить за ненадобностью на восточноанглийских аэродромах уже произведенный материал, сиречь самолеты и их полезный груз,— здоровый экономический инстинкт восставал против этого. Вдобавок решающую для продолжения операции роль сыграла, вероятно, прямо-таки необходимая с точки зрения поддержания британской морали пропагандистская ценность, какую имели ежедневные сообщения английских газет о систематических разрушительных актах, ведь в то время на европейском континенте англичане с противником никак больше не соприкасались. Вот почему, пожалуй, никто и не помышлял снимать с должности сэра Артура Харриса (главнокомандующего бомбардировочной авиацией), который упорно отстаивал свою стратегию, даже когда ее крах был уже очевиден. Некоторые комментаторы утверждают, «что “бомбист” Харрис сумел обеспечить себе особое влияние на обычно властного, нетерпимого Черчилля», ведь, хотя премьер неоднократно выражал определенные сомнения касательно ужасающих бомбардировок открытых городов, он — явно под влиянием Харриса, отметающего любые контраргументы, — успокоился на том, что теперь, мол, все вершит высшая, идеальная справедливость, «дабы те, кто навлек на человечество эти кошмары, в своих домах и на собственной шкуре ощутили сокрушительные удары заслуженного возмездия». В самом деле, многое убедительно свидетельствует, что командующий бомбардировочной авиацией Харрис, по выражению Солли Цукермана, верил в уничтожение как таковое, а стало быть, оптимально воплощал главный принцип любой войны, то бишь максимально полное уничтожение противника вкупе с его жилищами, его историей и природным окружением. Элиас Канетти связывал странную притягательность мощи в самом чистом ее проявлении с растущим числом ее жертв. Совершенно в таком же ключе непоколебимость позиции сэра Артура Харриса вытекала как раз из его безграничного интереса к уничтожению. План последовательных сокрушительных ударов, неуклонно осуществлявшийся до самого конца, отличался поразительно простой логикой, по сравнению с которой все реальные стратегические альтернативы, как, например, пресечение обеспечения горючим, выглядели всего-навсего отвлекающими маневрами. Воздушная война бомбардировочной авиации была войной в чистой, незамаскированной форме. Ее развитие, противоречащее всякому рассудку, показывает, что жертвы войны, как пишет Илейн Скарри в своей необычайно прозорливой книге «Тело в муках», не суть жертвы, принесенные на пути к какой бы то ни было цели, они в прямом смысле — сам этот путь и эта цель.
Первый репортаж «вживую» о бомбардировке Берлина, переданный местной службой Би-би-си, разочарует всякого, кто ожидает вникнуть в происходившее из перспективы более высокого уровня.
Большинству весьма далеких друг от друга по уровню и, как правило, фрагментарных источников сведений о разрушении немецких городов свойственна странная эмпирическая слепота, вытекающая из крайне суженной, односторонней или смещенной точки зрения. Например, первый репортаж «вживую» о бомбардировке Берлина, переданный местной службой Би-би-си, разочарует всякого, кто ожидает вникнуть в происходившее из перспективы более высокого уровня. Поскольку, невзирая на неотступную опасность, во время этих ночных вылетов ничего достойного описания не случалось, корреспондент (Уилфред Вон Томас) вынужден обходиться минимумом реальных фактов. Только благодаря пафосу, который снова и снова звучит в его голосе, не возникает ощущения скуки. Мы слышим, как с наступлением сумерек тяжелые бомбардировщики «Ланкастер» поднимаются в воздух и уже вскоре, оставив позади белую полосу побережья, летят над Северным морем. «Сейчас прямо впереди, — комментирует Вон Томас с заметной дрожью в голосе, — мрак и Германия». В ходе перелета к первым прожекторным батареям линии Каммхубера — в репортаже он, конечно же, по времени сильно сокращен — слушателям представляют экипаж: Скотти, бортинженер, до войны киномеханик в Глазго; Спарки, бомбардир-наводчик; Коннолли, «штурман, австралиец из Брисбена»; «стрелок в верхней гондоле, до войны работавший в рекламе, и стрелок хвостовой установки, суссекский фермер». Командир остается анонимным. «Сейчас мы летим над морем, держим курс на вражеское побережье». Идет обмен различными наблюдениями и техническими указаниями. Порой слышен лишь рокот мощных моторов. На подлете к городу — целый калейдоскоп событий. Лучи прожекторов, прошитые очередями зенитных трасс, тянутся к бомбардировщикам, один ночной истребитель сбит. Вон Томас старается надлежащим образом преподнести драматическую кульминацию, говорит о «стене ищущих лучей, их сотни, они образуют конусы и пучки. Стена света, почти без разрывов, а за этой стеной — море еще более ярких огней, красных, синих, зеленых, и в небе над ним — мириады вспышек. Это сам город!..» «По-видимому, мы ничего толком не услышим, — продолжает Вон Томас, — рев нашего самолета заглушает все прочие звуки. Мы летим прямиком в средоточие грандиознейшего беззвучного фейерверка, здесь и сейчас мы сбросим бомбы на Берлин». Однако за этой увертюрой, собственно, ничего больше не следует. Все происходит слишком быстро. Самолет уже покидает район бомбометания. Нервное напряжение отпускает, экипаж внезапно становится разговорчив. «Ну-ка, потише!» — осаживает командир. «Ей-богу, обалденное зрелище», — успевает сказать кто-то. А другой добавляет: «Ничего лучше я не видал». Затем, уже через некоторое время, третий, не так громко, почти с благоговением: «Гляньте, какой пожар! Ого-го!» Сколько их тогда было, таких огромных пожаров. Однажды я слышал, как бывший бортстрелок рассказывал, что с его места в хвостовой гондоле горящий Кёльн было видно, даже когда они снова оставили позади голландское побережье, — огненное пятно во мраке, похожее на хвост неподвижной кометы. Наверняка из Эрлангена или Форххайма был виден охваченный пламенем Нюрнберг, а с холмов вокруг Гейдельберга — отсвет пожаров над Мангеймом и Людвигсхафеном. Принц Гессенский ночью 11 сентября 1944 года, стоя на опушке своего парка, смотрел на Дармштадт, находившийся в пятнадцати километрах. «Зарево разгоралось все сильнее, пока весь южный небосклон не запылал багровым огнем, пронзаемым желтыми молниями». Один из узников Малой крепости Терезиенштадта вспоминает, что на расстоянии 70 километровотчетливо видел из окошка своей камеры огненный отсвет над горящим Дрезденом и слышал глухие разрывы бомб, как будто совсем рядом бросали в погреб пятидесятикилограммовые мешки. Фридрих Рекк, уже в самом конце войны за вредительские высказывания брошенный фашистами в Дахау и умерший там от тифа, записал в дневнике — а это поистине неоценимое свидетельство эпохи, — что при налете на Мюнхен в июле 1944 года до самого Кимгау дрожала земля и от взрывных волн вылетали стекла. Хотя то были совершенно недвусмысленные знаки катастрофы, накрывающей всю страну, не всегда оказывалось так уж просто получить достаточно точные сведения о характере и масштабе разрушений. Потребности узнать противостояло желание отключить восприятие. С одной стороны, курсировало невероятное количество дезинформации, с другой — правдивые истории, которые абсолютно не укладывались в голове. В Гамбурге, как говорили, погибло 200 000 человек. Рекк пишет, что не может верить всему, поскольку много слышал «о полной душевной неадекватности гамбургских беженцев… об их амнезии и о том, как они в одних пижамах бродили вокруг в том состоянии, в каком спасались из рушащихся домов». Носсак сообщает сходные вещи: «В первые дни было невозможно получить точные сведения. То, что рассказывали, в деталях никогда не совпадало». Очевидно, под влиянием пережитого шока способность вспоминать частично отказывала или работала компенсаторно, по произвольной сетке. Уцелевшие в катастрофе были ненадежными, полуслепыми очевидцами. В тексте «Воздушный налет на Хальберштадт 8 апреля 1945 года», написанном уже примерно в 1970 году и напоследок поднимающем вопрос о последствиях так называемой moral bombing (моральной бомбардировки), Александер Клуге цитирует некого американского военного психолога, который после войны беседовал в Хальберштадте с уцелевшими и вынес впечатление, что «население, при всей его врожденной словоохотливости, утратило психическую способность вспоминать и амнезии подверглись люди, находившиеся внутри периметра городских разрушений». Даже если это предположение, сделанное якобы реальным лицом, относится к числу знаменитых псевдодокументальных приемов Клуге, таким образом безусловно выявлен характерный синдром, ведь рассказам уцелевших, как правило, свойственна отрывочность, своего рода эрратичность, настолько несовместимая с нормальным вспоминанием, что легко создает впечатление выдумки и досужего домысла. Однако это ощущение фальши в сообщениях очевидцев возникает и в силу стереотипных оборотов, какими они то и дело пользуются. Реальность тотального уничтожения, непостижимая в своей экстремальной случайности, стирается, бледнеет за ходячими формулировками вроде «все стало добычей огня», «роковая ночь», «от пожара было светло как днем», «царил сущий ад», «мы видели преисподнюю», «страшная участь немецких городов» и проч. Их функция — маскировать и нейтрализовать переживания, выходящие за пределы постижимого. Выражение «в тот страшный день, когда наш прекрасный город сровняли с землей», которое клугевский американец — исследователь катастроф слышит как во Франкфурте и Фюрте, Вуппертале и Вюрцбурге, так и в Хальберштадте, на самом деле — всего-навсего жест, отгоняющий воспоминание. Даже дневниковая запись Виктора Клемперера о гибели Дрездена остается в пределах, поставленных языковой традицией. Ввиду всего, что мы знаем теперь о гибели Дрездена, нам кажется невероятным, чтобы человек, стоявший тогда в тучах искр на Брюльской террасе и видевший панораму горящего города, мог сохранить здравый рассудок. Нормальное функционирование обычного языка в рассказах большинства очевидцев заставляет усомниться в аутентичности изложенного в них опыта. За считанные часы в огне погиб целый город со всеми его постройками и деревьями, со всеми жителями, домашними любимцами, всевозможной аппаратурой и оборудованием, а это не могло не привести к перегрузке и параличу мыслительной и эмоциональной способности тех, кому удалось спастись. Сообщения отдельных очевидцев поэтому имеют лишь относительную ценность, и их необходимо дополнить тем, что открывается при синоптическом, искусственном сопоставлении.
За считанные часы в огне погиб целый город со всеми его постройками и деревьями, со всеми жителями, домашними любимцами, всевозможной аппаратурой и оборудованием, а это не могло не привести к перегрузке и параличу мыслительной и эмоциональной способности тех, кому удалось спастись.
В разгар лета 1943 года, в надолго затянувшийся период жары, британские ВВС при поддержке 8-й воздушной армии США совершили ряд налетов на Гамбург. Целью этой операции под кодовым названием «Гоморра» было возможно полное уничтожение и испепеление города. При налете в ночь на 28 июля, который начался в 1 час ночи, на густонаселенный жилой район восточнее Эльбы, включающий кварталы Хаммерброок, Хамм-Норд и -Зюд, Билльвердер-Аусшлаг, а также отчасти Санкт-Георг, Айльбек, Бармбек и Вандсбек, было сброшено 10 000 тонн фугасных и зажигательных авиабомб. Сначала по уже опробованной схеме фугасы мощностью в четыре тысячи фунтов вышибли все окна и двери, затем легкие зажигательные бомбы подожгли чердаки, а зажигательные бомбы весом до15 килограммоводновременно пробивали перекрытия и проникали в нижние этажи. За считанные минуты на территории около 20 квадратных километров повсюду возникли огромные пожары, разраставшиеся настолько быстро, что уже через пятнадцать минут после сброса первых бомб все воздушное пространство, куда ни глянь, стало сплошным морем пламени. А еще через пять минут, в час двадцать, разразилась огненная буря такой интенсивности, какую до тех пор никто и помыслить себе не мог. Огонь, взметнувшийся ввысь на две тысячи метров, с такой силой затягивал кислород, что воздушные потоки приобрели мощь урагана и гремели, как могучие оргàны, где включены разом все регистры. Так продолжалось три часа. Достигнув кульминации, эта буря срывала фронтоны и крыши домов, крутила в воздухе балки и тяжелые плакатные стенды, с корнем выворачивала деревья и гнала перед собой живые человеческие факелы. Из-за рушащихся фасадов выплескивались высоченные фонтаны пламени, мчались по улицам, словно приливная волна, со скоростью свыше150 километровв час, огневыми валами кружили в странном ритме на открытых площадях. В некоторых каналах горела вода. В трамвайных вагонах плавились стекла, в подвалах пекарен кипели запасы сахара. Выбежавшие из укрытий люди вязли в жидком, пузырящемся асфальте, не могли выбраться, падали и замирали в гротескных позах. Никто на самом деле не знает, сколько людей той ночью погибло и сколько перед смертью сошло с ума. Когда настало утро, солнечный свет не проникал сквозь свинцовый мрак над городом. Дым поднялся на высоту восьми тысяч метров и расползся там исполинской, похожей на наковальню грозовой тучей. Зыбкий жар — пилоты бомбардировщиков рассказывали, что чувствовали его сквозь обшивку самолетов, — еще долго исходил от чадящих, тлеющих груд развалин. Жилые кварталы, уличный фронт которых составлял круглым счетом200 километров, оказались полностью уничтожены. Повсюду лежали чудовищно изуродованные тела. По одним еще пробегали синеватые фосфорные огоньки, другие, бурые или багрово-красные, запеклись и съежились до трети натуральной величины. Скрюченные, они лежали в лужах собственного, частью уже остывшего жира. В августе, когда бригады штрафников и лагерных заключенных смогли начать разборку остывших развалин, во внутренней зоне полного уничтожения (ее уже в ближайшие дни заблокировали) были обнаружены люди, которые, задохнувшись от угарного газа, так и сидели за столами или у стен; в иных местах находили куски плоти и кости, а то и целые горы тел, обваренные кипятком из лопнувших отопительных котлов. При температуре, достигавшей тысячи градусов и выше, многие тела были настолько обуглены и испепелены, что останки нескольких больших семей могли уместиться в одной бельевой корзине.
Никто на самом деле не знает, сколько людей той ночью погибло и сколько перед смертью сошло с ума.
Исход уцелевших из Гамбурга начался еще в ночь налета. Как пишет Носсак, «по всем окрестным дорогам ехали люди… сами не зная куда». Миллион двести пятьдесят тысяч беженцев забросило на самые дальние окраины рейха. В уже цитированной записи от 20 августа 1943 года Фридрих Рекк сообщает о группе из сорока-пятидесяти таких беженцев, которые пытаются штурмом взять поезд на одной из верхнебаварских станций. При этом на перрон падает фибровый чемодан и «разбивается, вываливая все свое содержимое. Игрушки, маникюрный несессер, обгоревшее белье. И под конец спаленный до мумии детский трупик, который полуобезумевшая женщина тащила с собой как остаток еще несколько дней назад живого прошлого». Едва ли возможно, чтобы Рекк выдумал эту жуткую сцену. Так или иначе, глубоко потрясенные, то обуреваемые истерическим желанием выжить, то впадающие в тяжелейшую апатию беженцы наверняка разнесли весть об ужасах гибели Гамбурга по всей Германии. Во всяком случае, дневник Рекка подтверждает, что, несмотря на запрет передачи информации, все-таки можно было узнать, какая кошмарная гибель постигла немецкие города. Годом позже Рекк рассказывает о десятках тысяч людей, которые после заключительного массированного налета на Мюнхен разбили палаточный лагерь в скверах на площади Максимилиансплац. Дальше он пишет: «Неподалеку, по магистральному шоссе, бесконечным потоком (идут) беженцы, немощные старушонки, которые на длинной палке несут за плечами узелок со скудными пожитками. Бесприютные бедолаги в обгоревшей одежде, в их глазах по-прежнему стоит ужас огненного смерча и взрывов, раздирающих на куски все и вся, ужас гибели в засыпанном подвале — под завалом или от мерзкого удушья».
Примечательность подобных заметок — их редкость. На самом деле кажется, будто в те годы никто из немецких писателей, за исключением Носсака, был не готов или не способен написать что-либо конкретное о ходе и последствиях столь долговременной и масштабной уничтожительной кампании. Ничего не изменилось и по окончании войны. Псевдоестественный рефлекс, обусловленный чувствами позора и строптивости по отношению к победителям, велел молчать и отвернуться. Стиг Дагерман, осенью 1946-го работавший в Германии как репортер шведской газеты «Экспрессен», пишет из Гамбурга, что целых пятнадцать минут поезд с нормальной скоростью шел через лунный ландшафт между Хассельброоком и Ландвером и в этой чудовищной пустыне, пожалуй, самом страшном во всей Европе поле развалин, он не видел ни одного человека. Поезд, пишет Дагерман, как все поезда в Германии, был набит битком, но никто не смотрел в окно. А поскольку он сам смотрел наружу, в нем признали чужака. Дженет Фланнер, корреспондентка «Нью-Йоркера», сделала сходные наблюдения в Кёльне, который, как гласит один из ее репортажей, «в руинах и одиночестве полного физического уничтожения… утратив всякую форму… [лежит] на речном берегу. То, что уцелело от его жизни, с трудом торит себе путь по засыпанным боковым улицам: скудное население, одетое в черное, — безмолвное, как сам город». Это безмолвие, эта закрытость и отстраненность — в них-то и заключена причина того, что мы так мало знаем, о чем думали и что видели немцы в течение половины десятилетия, между 1942-м и 1947-м. Развалины, среди которых они жили, остались terra incognita войны. Солли Цукерман, наверно, предугадывал этот дефицит. Как и все, кто непосредственно участвовал в дебатах о максимально эффективной наступательной стратегии и, стало быть, имел определенный профессиональный интерес к последствиям бомбардировок по площадям, он тоже постарался возможно раньше увидеть разрушенный Кёльн. В Лондон он возвращался, потрясенный увиденным, и договорился с Сирилом Коннолли, тогдашним издателем журнала «Оризон», что напишет статью под названием «О естественной истории разрушения». В автобиографии, вышедшей десятилетия спустя, лорд Цукерман сообщает, что этот замысел потерпел неудачу: «Вид тогдашнего Кёльна требовал более красноречивого описания, чем мог бы дать я». В 1980-е годы, когда я однажды заговорил с лордом Цукерманом на эту тему, он уже не мог вспомнить, о чем конкретно хотел в свое время написать. Перед глазами у него стоял только черный собор среди каменной пустыни да оторванный палец, найденный в куче развалин.
Целиком этот текст Зебальда выйдет в «Новом издательстве», которое COLTA.RU благодарит за предоставленную возможность опубликовать этот материал
[1] Еще переведены одна из повестей, составивших книгу «Изгнанники» («Пауль Берейтер» в журнале «Иностранная литература»,2004 г.), и эссе о немецком художнике Яне Петере Триппе (в журнале «Отечественные записки»,2008 г.).
Понравился материал? Помоги сайту!
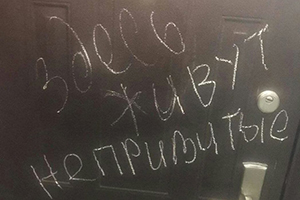 Общество
Общество
 Школа перевода: письма Эмили Дикинсон
Школа перевода: письма Эмили Дикинсон Впервые по-русски: Надар о Бальзаке
Впервые по-русски: Надар о Бальзаке Два эссе Уоллеса Стивенса
Два эссе Уоллеса Стивенса Григорий Кружков об Уоллесе Стивенсе
Григорий Кружков об Уоллесе Стивенсе В.Г. Зебальд. Воздушная война и литература
В.Г. Зебальд. Воздушная война и литература Первозвук
Первозвук Первозвук в контексте
Первозвук в контексте