 Литература
ЛитератураПарсифаль в Белом доме
 Ольга Берггольц
Ольга БерггольцРазговор с Натальей Громовой приурочен к выходу в издательстве «Вита Нова» полного текста блокадного дневника Ольги Берггольц. Издание снабжено комментариями Натальи Громовой и Александра Романова и проиллюстрировано рисунками блокадных художников из собрания музея «А музы не молчали».
Полина Барскова: Наше интервью приурочено к долгожданному выходу в свет в издательстве «Вита Нова» дневников Ольги Берггольц: это событие значительное, в первую очередь, потому, что Берггольц представляется сегодня одной из самых ярких и противоречивых фигур советской поэзии.
Какой период охватывает дневник? Чем это издание отличается от предыдущего издания дневника под названием «Ольга. Запретный дневник», осуществленного издательством «Азбука-Классика» в 2010 году?
Наталья Громова: Так получилось, что первым вышел дневник с 1941 по 1945 год, то есть «Блокадный». Это, конечно же, связано с 70-летием Победы. Но с точки зрения нормальной читательской логики это не очень хорошо. Лучше бы было следить за жизнью Ольги Берггольц по дневникам в ее естественном развитии. Дневники начинаются с 1923 года, то есть с ее тринадцати лет, и доходят до середины 70-х годов, то есть до ее смерти.
Это издание готовилось по полной версии дневников, находящихся в РГАЛИ. Предыдущее издание «Ольга. Запретный дневник» было подготовлено на основании уже опубликованных М.Ф. Берггольц отрывков из дневников, которые выходили в журналах в первые годы перестройки и, к сожалению, прошли тогда незамеченными. Но в издании «Азбуки» абсолютно новой была статья Натальи Соколовской по материалам следственного дела Ольги Берггольц «Тюрьма — исток победы над фашизмом», где было изложено много новых фактов.
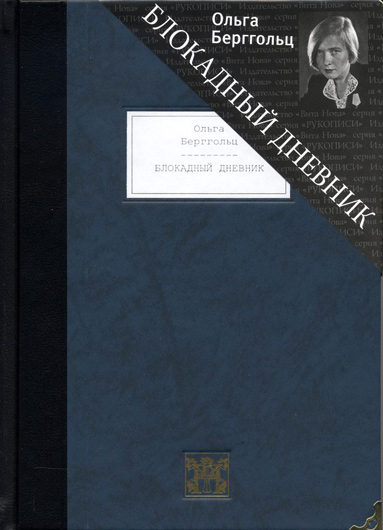 © Издательство Вита Нова
© Издательство Вита НоваБарскова: Зачем, как вам кажется, Берггольц вела дневник и как она его вела? Постоянно, с перерывами? Для кого?
Громова: Для Ольги Берггольц дневник был ее творческой мастерской. Если мы посмотрим на оглавление ее произведений, то там есть «Стихи из дневника», знаменитый «Февральский дневник», «Дневные звезды», которые насквозь дневниковая проза. Она вообще без него не могла существовать и вела его постоянно. Умудряясь описывать невозможное: смерть дочери Ирины, собрания и аресты, состояние отупляющего голода, гибель мужа, свидания с Георгием Макогоненко — при этом у меня, как у читателя, возникает ощущение, что она смотрит на себя со стороны, как на чужого человека.
Но с дневниками многое непонятно. Например, мы знаем точно, что часть тетрадей была изъята при аресте. Неясно, почему часть вернули вместе со страшными подчеркиваниями следователя. Но при этом абсолютно очевидно, что часть дневников 1934 года, где описывается убийство Кирова и последствия тех дней, отсутствует, это понятно из контекста. Почему одно возвращали, а другое оставляли? Непонятно. Часто перерывы были связаны с тюрьмой, болезнями или с теми периодами, когда она пила. К концу дневников записи становятся все более и более обрывочными, теряют сюжетную канву.

Барскова: Кто был для нее предполагаемой, будущей (или реальной?) аудиторией дневника?
Громова: Она, безусловно, представляла себе будущую аудиторию. Иногда она пишет о том, что люди, которые будут читать ее дневник, будут изумлены, о чем она беспокоилась во время блокады. Такие дневники обычно предназначены не для современников, а для следующих поколений. Она и в стихах обращается к нам, стараясь ответить на тот суд, которым будут судить ее время:
Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
Барскова: Даже по уже опубликованным фрагментам можно судить, что дневник опасный, крамольный: она не боялась ареста?
Громова: Она очень боялась за себя и свой дневник. 17 сентября 1941 года она пишет: «Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду» — именно поэтому муж Николай Молчанов по ее просьбе закапывает их во дворе дома, где жила ее мать. Потом почти то же самое повторяет Макогоненко уже в 1949 году, когда она ждет ареста по «ленинградскому делу»: он на даче прибивает две тетради к обратной стороне скамейки.
 Анна Ахматова и Ольга Берггольц© Леонид Зиверт
Анна Ахматова и Ольга Берггольц© Леонид ЗивертБарскова: Мне кажется, что в судьбе Берггольц с особой изощренностью (если не с особым цинизмом) прослеживаются внутренние конфликты исторической конструкции «советский поэт»: истовая комсомолка, охваченная стыдом и сомнениями арестантка, голос блокадного Ленинграда и один из самых успешных официальных интерпретаторов блокадной ситуации, подруга и доверенное лицо Ахматовой… А вы считаете ее советским человеком, советским литератором? Что нового мы можем узнать из дневника Берггольц о самом понятии «советский»? Как ваше мнение связано с работой над дневником?
Громова: В Ольге Берггольц, как в страстной личности и поэте, произошло несколько внутренних взрывов. Первый переворот — еще юношеский: это перенос веры в Христа в веру в Ленина. Именно сначала в Ленина, а не в советскую власть, которой еще толком не было. Отсюда эти стихи-рыдания, оплакивания, написанные на его смерть. Отсюда ее «Первороссияне», рифмующиеся с «первохристианами». Не случайно фильм, который был снят по этой поэме Евгением Шифферсом, был решен именно как история коммунистов-мучеников.
Второй по силе взрыв — это тюрьма. Но проблема была не только в том, что была разрушена вера в компартию. Главная драма состояла в том, что она поняла: она — часть этой системы, она лгала всем и себе. И тогда для нее наступает главная проблема — как избавиться от лжи или не участвовать в ней. Именно поэтому она с такой радостью встречает весть о войне. Да и не только она; казалось, что война не позволит лгать.
Но тут наступает следующее испытание — ложь во время войны, в которой надо соучаствовать. Однако именно блокада позволяет ей оторваться от общей пропагандистской линии. После приезда из Москвы весной 1942 года, после того как она увидела, что власть пытается всячески скрыть правду о гибели города, она берет на себя единственно возможный контакт с умирающими людьми — человеческий, личный. Потому что она тоже «ленинградская вдова», потому что она — одна из них. И это работает. Ее слышат. Она говорит людям, что герои — не только солдаты, летчики, танкисты, а герои — это они, простые, погибающие от голода люди. И их подвигу поставят памятник. Это было разрушением сталинской иерархии. Только власть могла определять, кто герой, а кто нет. Но она взяла на себя огромную ответственность. Она стала себя считать заступницей за Город. Интересно, что это было в отсутствие Ахматовой, которая всегда была его негласной Музой. Но на время войны ее место занимает Берггольц.
После войны тема лжи снова выступила для нее на первый план. Собственно, ее алкоголизм — это ответ на невозможность жить в условиях бесконечной фальши.
Ее советскость, как и советскость ее близкого друга Твардовского, — это история честных, порядочных людей и поэтов, которые разрушаются, выжигаются изнутри, пытаясь принимать правила системы, в которую они перестают верить. Это все шекспировские трагедии, и их нам еще предстоит понять.

Барскова: Некоторые из важнейших поэтических работ Берггольц, написанных во время блокады, называются «дневник». Как вы понимаете связь между ее поэтическими дневниками и «настоящим» дневником?
Громова: Она настолько серьезно относилась к «поэтическому дневнику», что была крайне раздражена, когда узнала, что Вера Инбер назвала свой сборник «Ленинградским дневником», считая, что та «стянула» это название по аналогии с ее «Февральским дневником» — главной блокадной поэмой.
Казалось бы, почему? Дневник — довольно распространенное понятие. Дело в том, что для Ольги Берггольц подневное переживание блокады как переживание сиюминутных преодолений, победы жизни над смертью стало собственной философией выживания, которую она сформулировала в огромном письме Н. Оттену, завлиту Камерного театра. Каждый раз доживание до новых граммов хлеба, доживание до праздника, до приезда, отъезда и т.д. Внутренний предел, который позволял именно дотянуть до определенного Срока. Она говорила друзьям, что их спасает микрожизнь. А ее подруга Мария Машкова перечисляла у себя в дневнике, что надо сварить на деревянных палочках обед — это центр дня, подняться по лестнице на пятый этаж, стащить парашу и донести ее до середины двора — это свершения каждого дня. Подвиг каждого дня.
Микрожизнь в подробностях выживания и доживания являл, несмотря на пафосные взрывы в ее стихах, и ее поэтический блокадный дневник. Там растворен ее личный Опыт микрожизни, описание которого ей казалось уникальным.
Барскова: Также связанный с прошлым вопрос: один из важнейших, на мой взгляд, аспектов работы Берггольц — это ее проза, которую сейчас прочно подзабыли. При этом проза эта совершенно оригинальна — и структурно, и тематически. Воспринимаете ли вы дневник как мастерскую ее прозы?
Громова: Ее проза абсолютно автобиографична. Даже ненаписанная вторая часть должна была выглядеть как разговор с умершим мужем, которому она рассказывает про все ужасы сталинского террора. Но у нее это не получилось, потому что ей не на что было опереться. Надо было отказаться от себя самой прошлой, советской, уверовавшей в Ленина. Поэтому она и остановилась на первой части, где прекрасные тексты про детство, юность и блокаду, где она предельно открыта, и мутные пафосные вкрапления про веру в Ленина и коммунизм. Именно поэтому ее книга, несмотря на самые прекрасные отклики, встретила неприятие людей, возвращавшихся с каторги и понятия не имевших о ее трагической судьбе. Одно из таких свидетельств — письмо Нины Гаген-Торн, ученого-этнографа, вернувшейся из почти 20-летнего заключения, я опубликую в своей будущей книге об Ольге Берггольц. Гаген-Торн писала ей, что возмущена тем, что та не «заметила» в своих «Дневных звездах» ту трагедию, которую вынесла страна. Понятно, что Ольга была просто возмущена этим письмом. Но ответом на него и должна была быть вторая часть книги, от которой остались мощные по драматизму фрагменты.

Барскова: В дополнение к вопросу о том, для кого велся дневник. Берггольц крайне откровенно повествует о своих лирических переживаниях, романах. Как вам кажется, зачем она это делает, предназначая текст для публичного чтения? Не смущала ли вас такая степень откровенности при публикации? Вообще что было самым сложным при редакторском выборе?
Громова: Это смущало, в первую очередь, ее наследников. И покойная Г.А. Лебединская (ее наследница) обратилась ко мне еще в 2006 году, чтобы я посмотрела дневники именно с этой точки зрения. Но сразу же стало понятно, что эта безудержная откровенность и открытость есть часть личности Берггольц, которая не изымается. Я много прочла и опубликовала дневников; конечно же, этот — самый беспощадный по отношению к самой себе. Самое тяжелое в нем — даже не романы и мучительные разбирательства с Макогоненко (это уже в дневниках конца 40-х — 50-х годов); самое сильное впечатление производит ее блокадный роман с Макогоненко на фоне умирающего мужа Николая Молчанова. Голод, грязь, холод, смерть и эти встречи в пустых брошенных домах. Она понимает, что с ней творится что-то не то, но в тот момент ее ведет инстинкт Жизни, именно он вытаскивает ее из смерти. И умирающий Николай это понимает. Но как же она проклинает себя потом, после смерти Николая. Как она чувствует, что заплатит всей своей жизнью за эту влюбленность, как она спустя годы назовет это предательством.
Особой проблемы редакторского выбора не было; мне казалось, что в 30-х годах можно было убрать описания заводской жизни «Электросилы» с подробностями создания турбин, но в РГАЛИ было решено печатать все до запятой, такой принцип архива, и тут я их понимаю. Наверное, это правильно.
Барскова: И вопрос, который я не могу не задать. Книга, как и вся продукция издательства «Вита Нова», вышла очень дорогая (при этом, я полагаю, очень нарядная). Есть ли шанс, что появятся более дешевые версии этого издания?
Громова: Как я поняла на презентации, «Вита Нова» не возражает, если бы эту же книгу кто-то переиздал в «дешевом» варианте. Тут уже дело за РГАЛИ, который выступает в качестве стороны, публикующей рукопись. Надеюсь, что найдется способ донести книгу до читателя. Впереди еще публикация детских и юношеских дневников, 30-х годов и послевоенного периода.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда
12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея
11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»
2 марта 2022
18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам
Все новости Литература
Литература Искусство
Искусство Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр Современная музыка
Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине
7 февраля 202217216 Молодая Россия
Молодая Россия Общество
ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной
7 февраля 202217522 Литература
Литература Кино
КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы
4 февраля 202217109 Современная музыка
Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе
4 февраля 202217094 Искусство
ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х
3 февраля 202217087