 Искусство
ИскусствоВоображать технологически
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science
2 февраля 20229281 © Василий Якушев
© Василий Якушев1 апреля в Театральном зале Дома музыки группа «Вежливый отказ» в очередной раз справляет день рождения. Большой концерт, два отделения, площадка, апеллирующая к определенному высоколобию, — но никакого закостенения, никакого почивания на лаврах: напротив, в программе прозвучат совершенно новые композиции, над которыми сейчас идет интенсивная работа. «Вежливый отказ» невозможно причислить ни к легендам русского рока, ни к какому бы то ни было року вообще — группа много лет живет собственной жизнью и не перестает при этом быть интересной как старым поклонникам, так и неофитам. Об этом и многом другом лидер группы, гитарист, вокалист и композитор Роман Суслов рассказал Артему Липатову в перерыве между репетициями.
— Нынче у вас просто большой концерт или какой-то юбилей?
— Юбилея никакого нет. Мы решили регулярные весенние большие концерты приурочивать к условному дню рождения группы. Теперь каждый год справляем день рождения весной где ни попадя: то было в Yotaspace, теперь — в Доме музыки.
— В Yotaspace, помню, в зале была дичайшая звуковая каша, но были и точки, где звучало все идеально. Поэтому многие из тех, кто пришел не случайно, бегали по залу в поисках этих точек.
— Это еще и музыка такая. Она и впрямь на периферии кашеобразная, а где-то в середине — такая, как надо! (Смеется.)
— Чем дольше я вас слушаю, тем больше ощущаю в ней то, что у меня отливается в словосочетание «яростное любопытство». С бешеным интересом группа смотрит на то, что вокруг происходит.
— Возможно, ты прав, но я думаю, что мое личное любопытство сводится к интересу прежде всего музыкальному. Мне нравится покопаться в чем-то... и это не принцип мировоззрения — это такие поиски скорее.
— Отсюда тот самый термин «кружок музыкальных изысканий»?
— Не помню, как он родился... Надо было что-то сказать, и это первое, что пришло в голову. Кружок — ну, круг, замкнутая фигура; с теми тремя членами этой группы можно было вполне составить круг. Да еще и мы были прикреплены к Дому работников просвещения Ждановского района, и термин «кружок» в этом контексте был совершенно оправданным.
— Когда все начинается, когда молодость и задор, можно спрашивать об истоках, ориентирах... В случае с вами такие вопросы задавать глупо. Вполне вероятно, что и вы для кого-то стали источниками и ориентирами.
— Да все давно отмерло, что было источниками тогда. Я иногда пытаюсь реанимировать в себе мысли и чувства, которые возникали при прослушивании той музыки, — и не могу. Не могу воссоздать никак, за очень редкими исключениями, какими-то частями, частицами. Детей своих пытаюсь приучить к какой-то правильной музыке — и понимаю, к сожалению, что она неправильная! (Смеется.) Они тянутся, слушают, им что-то нравится — а я уже не могу отвечать за это. Свой знак качества уже не поставлю. Другие оценки, другие ощущения... Возможно, это критическая незрелость во мне присутствует. Я не могу отбросить свое персональное отношение к этой музыке, возникающее сейчас, не могу смотреть на это достаточно объективно и аналитично. Вижу что-то, от чего меня корежит буквально, и думаю: «Ну что это?! Ну как?!» Тогда это, думаю, мне даже нравилось! Ужасный субъективизм! Я пытаюсь сейчас от этого отойти. Такая новая программа по борьбе с собой.
Пока есть возможность не делать плохо, я стараюсь этого не делать.
— Но это хороший признак, значит, работа внутренняя над собой не останавливается!
— Я это отношу к юности, знаешь.
— Вечной, наверное?
— Да! (Смеется.) Я не могу подобреть. Дима, наш басист, смотрит на все спокойными глазами священника. А я — не могу. Я злой.
— А, так вот почему у меня возникло про вас то самое «яростное любопытство»! Есть еще одно слово, которое я сейчас вспомнил. Хирургический термин такой: иссечение. При этом ваша музыка — она не холодная. Это не чистая математика, дробящая музыкальную ткань на сегменты. Я в Yotaspace взял своего 15-летнего сына; он ничего не понял. Вроде, говорит, что-то есть — но мимо, все мимо. А у меня нет.
— Тебе известны ключи просто, ничего особенного, а ему нет.
— Не могу не вспомнить о долго рождающейся программе так называемых военных песен...
— Ну, начали писать ее. Все как-то очень вяло... Я не люблю записи. В очередной раз убеждаюсь в том, что прав в этом своем отношении. Не идет; думаю, половину записанного в помойку отправлю. Я не хочу, чтобы не было блестяще. Надо, чтобы за глотку брало.
— Ты вообще перфекционист?
— Знаешь, это даже не перфекционизм — это повышенная требовательность к гармоничности. Я когда вижу диспропорцию, меня тошнит. Я не могу, когда кроссовки с пальто. Это Азия.
— С другой стороны, идеал — он, как горизонт, недостижим.
— Увы, приходится в какой-то момент ставить точку и называть ее потом постыдным компромиссом... Но тем не менее, пока есть возможность не делать плохо, я стараюсь этого не делать.
Сейчас я задался целью показать новые пьесы, и они непросты. Подготовка к концерту идет очень тяжело. Все расписано, партитуры есть... Коллектив здоровый, куча параметров, в которые надо вписываться. Все это чревато затратами душевными и физическими — я выхожу с репетиции мокрый. Буквально. Правда, вошли в режим, репетируем каждый день, ушла гиперэмоциональная составляющая процесса. Неудачи воспринимаются как факт: ну не получилось, ну вот так. Что будет в результате — я не знаю. Я, правда, всем сказал: не будут готовы пьесы — я не выйду на сцену. Концерт тогда на хрен! (Смеется.)
— Наверняка тебя много раз мучили вопросами о жизни и работе в деревне, твоей, как бы сказать, основной деятельности...
— (перебивает) Моя основная деятельность — безделье.
— Что?!
— Серьезно. Я бездельник. Я сам себе придумываю дела — от безделья.
Я же асоциальный элемент.
— Это же надо было выстроить так ситуацию, надо было долго и упорно работать для этого!
— Дело в том, что я не ставил задачу зарабатывать большие деньги. Не под это заточены мои трудовые усилия. У меня все тратится на поиски каких-то красивостей. Я строю дома у себя на территории только потому, что мне нравится возиться с материалами, мне хочется посмотреть, как это будет выглядеть в архитектуре... Я при этом мало что прорисовываю, только конструктивные детали, чтобы потом не забыть, не наляпать, чтобы все держалось как следует. А архитектурные изыски я не черчу, не рисую на компе, не планирую — исключительно в голове, а иногда по месту. Беру шаблон крыши, например, вот такой или такой... не нравится — сломал. Сейчас вот себе дом наконец строю. До сих пор я строил для условного нашего бизнеса — гостиницу какую-то, конюшню, маленький домик для туристов, технические постройки... Теперь себе строю. Семья здоровая, хочу, чтобы было тепло, менее энергозатратно, чтобы легко топилось зимой, в общем, чтобы удобно было. Такая работа.
— А пастила? Была же пастила?
— Я поставлял пастилу, сделанную кустарным способом, в домашних условиях, и она реально вкусная. Но компания, которая ее дистрибутировала, перешла в другой статус, стала большой, набрала объемы — и попала в поле всех проверок, интересов фискалов и так далее. И им надо отчитываться обо всем документами — а на домашний продукт какие могут быть документы? И я не собираюсь их делать. Ну, они стали закупать стандартную заводскую пастилу, которая по большому счету дрянь, не выдерживает никаких стандартов — рецептурных, вкусовых тем более. Так что это уже в прошлом, не работает.
— Теперь что — экологический туризм?
— Экологический он в той только мере, что все происходит в некоей свободной от помойки зоне. Ну и животные есть. Да, туризм.
— Как человек, живущий по большей части в свободной от помойки среде, скажи — что происходит с помойкой?
— Она пытается инжектироваться все время туда, ко мне. Очень бесит ситуация, когда из локального города за 20 километров приезжает какой-то... рыбачок и выбрасывает мешки с мусором в девственной среде. Он приезжает ловить рыбу со своим городским мусором! Почему его, мусор этот, не оставить в городе, на свалке — я не понимаю... Я начал устраивать разного рода препоны, а скоро начну просто эвакуировать оттуда этих товарищей. Только такие методы и работают. Я их к себе не пускаю на автомобилях, но кусок подъезда к территории — не мой, не вменен мне в контроль, так они там ухитряются. Или на остановках, на трассе. Кстати, трасса изумительно, по-европейски обустроена — Р92, которая связывает Калугу с Орлом. Раньше была занюханная локальная дорога — вбухали бешеное количество денег, поставили много источников света на солнечной энергии, туалеты, само покрытие сделали прекрасное... И везде гадят. Мягко говоря, срут.
Это общая история нашего среднерусского крестьянства. Они делают так везде, даже напротив своих домов. В деревнях страшно просто жить. И в исторической ретроспективе, думаю, то же самое: вне зависимости от власти или социального строя. Они привыкли так жить. И это переносится в город, конечно. Я в Москве живу в бывшем деревенском районе — в Матвеевском, там то же самое: мусор сыплют прямо из окон.
— Дети появились уже в той, приемлемой среде?
— В пустыне, да (смеется). Социализацию, конечно, они проходят — у нас есть локальный центр, они туда в детский сад ходят. Младшей нравится, старшему — нет.
— Ты выстраиваешь там какой-то микро-Эдем, а как дается возвращение в город?
— В город возвращаюсь как на дачу. И неплохо себя при этом чувствую. Ловлю кайфы из ностальгического прошлого: запах асфальта... Особо остро ощущается весна в городе. На природе она как-то постепенно наступает, и ты не замечаешь, как она пришла. В городе оп-па — и другое солнце на окнах, запахи другие, другая грязь, люди совсем другие... На природе резкие изменения связаны только с разливами, когда вода высокая, — мы на Оке живем. Тогда все начинает шуметь... Зима — она тихая, почти мертвая. А осень мне ближе там, она острее воспринимается. Потому что пространства больше. Когда смотришь вдаль, видишь километров на шестьдесят. Что-то на горизонте торчит, головка храма какая-то — и знаешь какого, знаешь все особенности рельефа. Очень здорово.
— Там занимаешься музыкой?
— Сейчас начал. Раньше — нет. Это была чисто городская история. А сейчас начал — и жена взвыла. У тебя, говорит, хозяйство, дети, я... Теперь надо выбирать время, прятаться... (Смеется.) Я же, когда туда приезжаю, большей частью занят хозяйством. Хозяйствую, езжу, туристы — приземленная история. А зима — на печку залез и музыку делай.
Когда мы сыграли в клубе Sexton FOZD песню про пожар Москвы 1812 года, он после этого сгорел.
— Ты же городской изначально. Как прошел момент перехода туда?
— Да легко. Руки поначалу только сильно болели. В голове вообще ничего не изменилось. Я настолько оторвался от городской системы существования в свое время, что мне было очень просто перебраться в пустыню. По распределению проработал два года — и ни черта не делал. Соскочил с профессии, на которую меня учили, попал на управляющую должность какого-то заведующего лабораторией технических средств обучения: у меня было в подчинении несколько человек и несколько профессиональных видеомагнитофонов... Потом появилась трудовая книжка с записью «музыкант» (я прошел тарификацию, должен был по девять рублей за концерт получать). С этого трамплина легко перебраться куда угодно. Тем более что потребность, необходимость подышать, потрогать листики всегда была. Меня родители рано лишили дачи, у меня не было летних выездов, и мне надо было отожрать какой-то кусок природы для себя внутрь обязательно!
Не было никаких принципов, никаких концепций. Да поначалу это вообще была дача, просто очень дальняя! А потом дом привязал к себе: мне понравилось многое делать руками — то, что в детстве было заложено отцом, стало востребовано. И пошло.
— Опять о военных песнях. Слово «война»...
— ...отвратительное слово!
— ...всегда — болевая точка. Особенно в последние годы.
— Песни со временем никак не связаны, никаких аллюзий. Это такая провокация: а не написать ли что-нибудь на тему? У меня была, ты помнишь, танцевальная программа, которая была не танцевальной, были «Этнические опыты», которые тоже к этнике мало имели отношения. И военная программа тоже, в общем, не военная. Это легкие ощущения, ассоциации с какими-то фильмами, с музыкой. Что-то из черно-белого кино, не более того. Такая сугубо искусственная, отвлеченная вещь, абстрактная.
— Но песни эти, звуча на концертах, стали рифмоваться с реальностью.
— А, так часто бывает. Когда, знаешь, мы сыграли в клубе Sexton FOZD песню про пожар Москвы 1812 года, он после этого сгорел. Так с нами часто бывает.
— Закономерностей ты не видишь?
— Не хотел бы.
— Какую роль для «Отказа» играет текст? У вас ведь есть и чисто инструментальные пьесы, и как бы песни...
— Частенько они и просто песни, без «как бы», потому что построены сугубо в песенном жанре. Во многом это все та же история. Это некие попытки что-то сделать, но не всегда получающиеся. Не всегда выходящие так, как я их задумываю. И вот этот полупродукт получается благодаря необходимости в какой-то момент нажать тормоз. Вот в этом месте нажато — и вот так это получилось. Это не очень хороший знак для меня — что много таких произведений; они как бы не закончены, не имеют нужной целостности с моей точки зрения. Но — живут...
Можно притягивать термины вроде «новая музыка», «авангард», прочее — но это напоминает, как ко мне на работу пытаются алкоголики устроиться.
— Ваш опыт сотрудничества с Григорием Дашевским, на первом этапе удачный, на втором не пошел. Отчего так вышло?
— Это так же, как с теми музыкальными параллелями, которые возникали в юности, а сейчас просто исчезли. И нестыковки такие часто происходят — ведь с поэтами, с которыми я сотрудничал раньше, у меня тоже были попытки реанимировать контакты, и ничего удачного не произошло. Недавно я задал провокационный вопрос Гору Оганисяну: напиши, говорю, что-нибудь... Он ответил: нет, дескать, я с музыкой совсем завязал. Мне понравилось, это честный ответ. Он оказался взрослее, чем моя провокация.
Я все больше убеждаюсь в том, что слово — очень сильная штука. Слушатель его очень хорошо привык воспринимать, на него он хорошо реагирует. Первая реакция — реакция на слово. И в этом смысле слово является деструктивным элементом для пьесы. Оно разрушает восприятие музыки. Настолько перетягивает одеяло на себя, что становится доминирующим. И тогда становится понятно, что нужно писать именно песню, нужно петь Слово. А не играть музыку с текстом. Иногда мне хочется, чтобы вот именно в этом месте стояли слова, — и даже кажется, что должны стоять. И должны быть облечены определенным смыслом. Но как только пытаешься это воплотить, все сразу теряется и распадается. И я на это просто забил, решил, что даже пробовать не буду. Если что-то возникнет, какая-то музыкально-фонетическая вязь, возможно, не отягченная никаким смыслом, может быть, я ее приму. Или другой вариант — просто раздать публике некие тексты, пускай сами попробуют что-то сделать. Я могу пытаться варьировать это, исполняя то один текст, то другой... Можно попробовать.
Потому что самому детерминированно ужесточать структуру пьесы мне не очень хочется — да и не видится мне никак.
— Вы выглядите в современной отечественной — а может быть, и мировой — музыкальной ситуации неким идеальным конструктом. У каждого из вас свои источники финансирования, не связанные с группой, вы освобождены от необходимости существовать за счет исполняемой музыки, вы никак не соотноситесь с трендами и тенденциями — впору позавидовать! Для любого творческого человека вы оказываетесь недостижимым идеалом — и при этом вы ничего специально, намеренно для этого не делали!
— Знаешь, это явление имеет и негативную сторону. Отсутствует востребованность в той мере, в какой она могла бы быть. Я не могу группу «Вежливый отказ» приткнуть туда, где она бы звучала в правильном месте для правильной аудитории. Организовать это невозможно — именно вследствие того, что мы занимаемся тем, для чего и названия-то нет. Классификации не поддается. Можно притягивать термины вроде «новая музыка», «авангард», прочее — но это напоминает, как ко мне на работу пытаются алкоголики устроиться. «Что ты умеешь делать?» — «Все!» И это, и то, и пятое, и десятое. Или через отрицание: не то, не это...
Понимаешь, опять нужно идти на компромиссы с самим собой. Я же асоциальный элемент и себя похоронил в пустыне сознательно. Я не высовываюсь не в силу собственной природной застенчивости — это моя естественная позиция. А надо общаться в соцсетях, устраивать разного рода акции для привлечения публики, а я этого не делаю. Можно таким образом занизить планку ответственности, а она не занижается...
— Но нынешний концерт проходит в месте с иной аурой. Думаю, меньше будет случайной публики.
— Понятия не имею. Тут еще ситуация такая, что в этот же день в Москве выступает Фред Фрит — он, кстати, из тех, с кем мы когда-то ассоциировались. И даже выступали на одной сцене. Посмотрим; я по этому поводу не очень напрягаюсь. Мне бы материал доделать хорошо.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science
2 февраля 20229281 Общество
ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202226273 Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература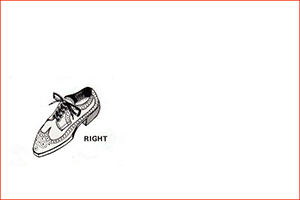 Молодая Россия
Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
31 января 20222490 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат
27 января 20229479 Современная музыка
Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»
27 января 20229034 Молодая Россия
Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой
27 января 20222706 Литература
Литература Общество
Общество