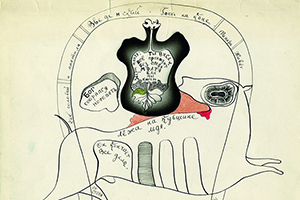 Литература
ЛитератураФилософ и художник: Яков Друскин и Михаил Шемякин
 Посетители на выставке «Россия – моя история»© Евгений Павленко / Коммерсантъ
Посетители на выставке «Россия – моя история»© Евгений Павленко / КоммерсантъCOLTA.RU совместно с Российским научным фондом продолжает проект «Острова империи: люди и события».
Разговор с доктором исторических наук, профессором Европейского университета Алексеем Миллером начался темой окраин Российской империи, но очень скоро переключился на обсуждение исторической памяти и мемориальной политики. Почему конфликты памяти не заканчиваются? Какую историческую политику ведет Российское государство? И нужно ли выкапывать Сталина?
— Если говорить о подсерии издательства «НЛО» «Окраины Российской империи»: что удалось, что не удалось, каковы перспективы сюжетного развития?
— Прежде всего, ничего не удалось. В принципе, серия задумывалась как серия учебных пособий для высшей школы. Плюс, поскольку она делалась с Фондом Сороса, была еще такая идея, что каждая из книг будет плодом сотрудничества между историками из России и историками из этих вот «окраинных» регионов.
— В книге про Северный Кавказ так отчасти удалось. Там участвовал известный кабардиновед Валерий Кажаров.
— Да, верно. Весь проект был задуман примерно за год-полтора до того, как Фонд Сороса ушел из России. При этом он все свои обязательства выполнил. Но он должен был выплачивать деньги по мере изготовления продукта. Когда стало понятно, что он должен уходить, то они сказали так: «Мы сейчас все деньги выплачиваем коллективу». Я как-то старался предотвратить эту катастрофу, потому что понимал, что сейчас все это закончится. Но технически это было невозможно. В результате четыре проекта состоялись. При том что по ходу дела менялась сама концепция. Вместо учебных пособий они превратились просто в коллективные монографии. Мы переделывали формат как бы уже в движении. А какие-то книги просто не были сделаны. Потому что некоторые авторы деньги взяли и ничего не сделали.
Вот четыре книжки вышли, при том что деньги были заплачены за шесть. И я остался с этим наследством, вызывавшим крайнее раздражение у журнала Ab Imperio. Они организовали форум по обсуждению этого проекта, где все те рецензенты, которых они сами привлекали, писали о том, что книжки — безнадежный отстой. И только те рецензенты, которых они не могли контролировать, писали, что это серьезно и важно. Это было уже на той стадии, когда я окончательно понимал, что сотрудничество с Ab Imperio и его редакторами невозможно.
А дальше уже надо было что-то менять. Надо было как-то пробовать продолжать эту серию, не имея денег и стараясь при этом соблюдать формат. Потому что идея была не такая, что мы пишем историю, к примеру, Польши. Мы не писали историю Польши или Украины. Мы писали историю определенных земель в составе Российской империи. Идея была такая: первая глава, очень обзорная, довольно короткая, — о том, что было на этих землях до того, как их поглотила Российская империя. Потом — подробный рассказ о том, как эти земли существовали внутри Российской империи. И заключительная глава — о том, что с ними случилось после того, как они покинули Российскую империю. При этом я, например, в книжке, которую мы делали с Михаилом Долбиловым про западные окраины, специально просил ведущих польского, литовского, белорусского и украинского историков написать некий комментарий-рассуждение, критические замечания по поводу этого текста. Идея была такая: вот мы, российские историки, базируемся в России. У нас, наверное, есть какая-то тенденциозность. И мы приглашаем историков из других стран прокомментировать нашу работу прямо внутри этой книги, в четырех отдельных статьях, и заодно продемонстрировать свою тенденциозность. А синтез всех этих точек зрения должен был происходить в мозгу у читателя. После этого вышло еще несколько книжек. Вышла книжка ребят, которые учились у меня в свое время в Центрально-Европейском университете, — Андрея Кушко и Виктора Таки. Они представляли собой гениальную пару: один из них — скорее, румынист, а другой — молдовенист с российским уклоном. Они друзья, им было проще договариваться, и они сделали, с моей точки зрения, очень хорошую книжку.
 Алексей Миллер© Михаил Воскресенский / РИА Новости
Алексей Миллер© Михаил Воскресенский / РИА Новости— О Бессарабии. А почему Грузия не появилась? Северный Кавказ был, а Грузии не было.
— Потому что мы не сумели собрать авторский коллектив. Это ситуация, когда уже деньги как мотиватор отсутствуют. У меня не было гонорарных денег, как в первых случаях — от Сороса. Хотя «Новое литературное обозрение» готово было издавать. Однако составить этот авторский коллектив довольно сложно. И заведомо я не хотел отдельно Грузию, национальный нарратив создавать, а хотел Кавказ, Южный Кавказ в составе Российской империи. Потому что Грузии в современном понимании в Российской империи не было. Была Кутаисская губерния, была Тифлисская губерния. Наиболее населенный армянами город Российской империи был Тифлис — армяне здесь составляли большинство. Грузия, Армения и Азербайджан возникли уже на развалинах Российской империи. Если уж рассказывать о национальной истории, то история Грузии есть. И желающих написать еще одну историю Грузии — масса. Но это не то, чего я хотел. У нас там нет ни одной национальной истории. Нужно пространство, где складываются эти идентичности, эти территориальные комплексы, где идет борьба за территорию, соревнование национальных проектов.
Другая книжка, которую я бы очень хотел иметь, — это книжка про балтийские губернии. И есть люди, которые хотели это делать. Но жизнь же у нас очень загруженная, и пока что ничего не получилось. Зато получилась чудесная книжка Ильи Виньковецкого про Аляску как окраину Российской империи. В ней мы отступили от принципа коллективной работы.
— Вы согласны с тем, что индивидуальная работа, как правило, получается интереснее, чем коллективная монография?
— Нет. Считаю, что вообще нет такого принципа. Если у тебя есть автор, который может написать про окраину Российской империи какую-то индивидуальную монографию, — пусть пишет. Если есть группа людей, которые думают пусть не одинаково, но сопоставимо, то получится ничуть не хуже. Вот в «Западных окраинах Российской империи» нет ни одного раздела, где я бы не участвовал. И иногда мне казалось: боже мой, может, мне самому все это сделать, чем так мучиться? Но с Долбиловым у меня было очень хорошее сотрудничество. А с кем-то у меня не совпадали стилистические представления о том, как надо писать, приходилось переписывать. Но все равно наличие разных перспектив, разного опыта почти всегда полезно. Не надо прикидываться, что даже про ту окраину, которой ты занимаешься, ты все знаешь. Не знаешь. Если есть человек, который знает больше тебя о каком-то аспекте темы, пригласи его, договорись, если сможешь. Сейчас серия «Окраины Российской империи» — уже не такая значимая вещь. Но когда она выходила — в 2004, 2005, 2006 годах, — это было очень значимо.
— Почему сейчас она менее значима? Серия будет продолжаться, верно?
— Будет. Но тогда все-таки на этом был фокус. Империя, национальный вопрос. Все были этим озабочены — осмыслением, как об этом можно рассказать. С тех пор прошло довольно много времени — больше 10 лет. Я бы сказал, что пик интереса к имперской проблематике прошел. Сейчас мы делали в Европейском университете конференцию для молодых ребят, аспирантов в основном. Мы им дали две темы для того, чтобы заявляться. Это темы наших магистерских программ, которые заблокировал пока Рособрнадзор, гореть ему в аду: «История империй (Россия и СССР в сравнительной перспективе)» и «Современные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти». На «Историю империй» подали четыре человека, то есть четыре хорошие заявки были отобраны. Из них три заявки вполне могли идти по теме исследований исторической памяти. То есть тема памяти сегодня намного более популярна.
— А как теперь надо писать об окраинах и о Российской империи? После того как прошел пик интереса к имперской проблематике. Как-то по-другому надо писать?
— Вся серия — это книги про взаимодействие окраин и центра. Именно в этом их ценность. Потому что в национальных нарративах, написанных на окраинах, центр — это такой злобный Саурон, который хочет сделать жизнь людей на окраинах как можно более несчастной. А все, что он делает, объясняется только одной логикой: как я могу им нагадить? А из центра только политика центра видна. А как сделать именно пространство взаимодействия? Не случайно во всех этих книжках публиковалось одно и то же введение, которое я написал. Оно должно было задавать вот эту оптику: империя как пространство взаимодействия — во-первых. Во-вторых, про то, как центр не занимался одним лишь мучением и подавлением, а с другой стороны, как окраины не посвящали себя все без исключения справедливой борьбе за национальную независимость.
— То есть это была попытка написания истории, в которой были бы не только страдания и восстания?
— Конечно. Возьмите, скажем, историю Эстонии, эстонского народа, написанную эстонцами. В этой книге не будет ничего или почти ничего про ассимилировавшихся в русскую культуру эстонцев. Они просто оказались потеряны для национального нарратива.
— Как все эти книги, которые посвящены окраинам и выходили в серии, встречали на бывших национальных окраинах Российской империи?
— Очень по-разному. То время, когда мы все это писали, было время диалоговое. Люди встречались, люди говорили. Считалось неприличным быть таким зубодробительным националистом.
— И за 10 лет все поменялось?
— Поменялось в том смысле, что сказать: «Это какие-то москальские прихвостни» или «Это идеологическая диверсия Москвы» — это не просто не стыдно, но вполне геройский поступок. С другой стороны, говорить о том, что историки в Эстонии, Литве, Украине и т.д. продали душу дьяволу национализма, тоже теперь нормально. Тогда это падало на иную почву, люди хотели слушать. Перевод моей книжки «Украинский вопрос» вышел с какими-то дополнительными статьями. Это вышло в Киеве в 2013 году. А ее перевод на польский был готов в 2013 году, но не вышел и уже никогда не выйдет.
— Что это: особенности политического момента и смена фона политической публицистики? Или это изменились национальные нарративы? Тогда они были такие человеческие, а сейчас такие вот зубастые.
— Это изменился подход к политике памяти. Изменилась культура политики памяти.
— Когда они изменились? Вот, к примеру, в Грузии буквально сразу после «революции роз», всего через три года, появился Музей советской оккупации. Это 2006 год. Что изменилось-то? В Польше Институт национальной памяти появился еще раньше, он же тоже совсем не новодел.
— Не новодел, это правильное замечание. Но. В Европе 1990-х — начала 2000-х доминирует вот эта старая европейская культура памяти. В очень упрощенном виде суть ее такая: ключевое событие, по отношению к которому все меряется, — это Холокост. И получается, что главная жертва — это жертвы Холокоста. Это значит, что в Старой Европе никто не может объявлять себя «главной жертвой». Роль «главной жертвы» занята. А вместо этого все должны посмотреть, как, в какой степени их собственные страны, их собственные народы соучаствовали в Холокосте: активно, пассивно, по-всякому. Этот процесс продолжался очень долго, десятилетиями. Жак Ширак официально признал участие французов в Холокосте в 1995 году. Это то, что, в принципе, можно описать как космополитическую культуру памяти. И надо сказать, что такая культура памяти в России доминировала после распада Советского Союза. То есть идея была какая: давайте с поляками поговорим о том, что называлось «белыми пятнами», — о трудных вопросах нашей истории. Для чего мы с ними поговорим об этом? Для того чтобы сказать всю правду и, сказав ее, помириться.
— Было такое желание?
— Было такое желание. Вообще представление о том, что такое политика памяти, — это всем сказать правду, покаяться.
— Это желание не было дано в нагрузку к политическому курсу на сближение? Или же это самостоятельная цель?
— А это неважно. Ничего самостоятельного не бывает. Это политика. Когда мы говорим «политика памяти», важно сделать акцент, что это именно политика. Смотрите: в 2009 году отмечалась очередная годовщина начала Второй мировой войны. Владимир Путин поехал на Вестерплятте. Он тогда был премьером, и его партнером по всей этой истории был Дональд Туск, который тогда проводил политику замирения с Россией. Путин поехал, сказал, что Красная армия не могла принести свободу, потому что сама не была свободной. Он сказал, что тем не менее это было освобождение от нацизма. Что нам очень стыдно за пакт Риббентропа—Молотова. В 2009 году. И, в общем, было понятно, что он делает это исходя из того, что и другие покаются. У других был Мюнхен, у нас был пакт Риббентропа—Молотова. И мы виноваты, и вы виноваты — каждый по-своему. Вместо этого ему сказали: «О да! Ты правильно сказал — виноваты вы, покайтесь. А Мюнхен к делу не относится». Потом происходит дальнейшее ухудшение политических отношений. И, как следствие, в 2014 году он говорит: «Пакт Риббентропа—Молотова? Была такая вдумчивая политика. А какие у нас были еще варианты?» То есть для него оценка каких-то таких ключевых вещей в очень большой степени зависит от реального политического контекста. Но что изменилось? Когда что-нибудь делали эстонцы, литовцы в 1990-е — начале 2000-х, какой-нибудь памятник снимали, Россия устраивала дикий скандал. И это было очень положительное явление. Ведь что такое скандал? Это надежда быть услышанным. С моей точки зрения, это намного лучше, чем когда то же самое сегодня делают эстонцы или литовцы, а Россия уже не реагирует. Потому что: а) знает, что эстонцам и литовцам на это наплевать; б) знает, что вместо возмущения нужно просто платить той же монетой. То есть из диалогового режима, в котором предполагалось, что мы сейчас поговорим об истории, чтобы помириться, мы вошли в режим агонистской памяти, когда вопрос не в том, как мы сейчас обсудим, с какой стороны какая часть правды, признавая, что с каждой стороны какая-то часть правды. Цель — не примирение, а противостояние, использование «другого». Но агонистский подход все-таки предполагает некоторое взаимное уважение сторон, а в Восточной Европе мы все больше срываемся в антагонистический режим, когда разговор другой: мы — жертвы, вы — палачи, покайтесь. Это не диалог. Это длинная история и довольно сложная. Как это произошло и как в современной европейской политике памяти новые члены Европейского союза старались и до сих пор стараются — не без успеха — вытеснить Холокост как центральный мотив мотивом тоталитаризма. При этом тема тоталитаризма понятна, она работает, прежде всего, в адрес России. И Россия оказывается этим «чужим». Немцы как бы уже покаялись, считается, что они выполнили свой урок — и слава богу. Хотя иногда до сих пор доходит до того, что Польша снова хочет репараций от Германии. Но сегодня это вопрос не диалога по поводу спорных, трудных, болезненных вопросов памяти, а вопрос только того, как мы, в какой более или менее хамской, более или менее грубой форме будем утверждать свое видение и делать нашего политического противника злодеем. В 2010 году, когда упал самолет Качиньского, какая была первая реакция? Давайте мы покажем по нашему телевизору фильм «Катынь». Его показали два раза. Маятник качнулся. Было 25% — стало 70% тех, кто знает, что такое Катынь и кто виноват, и кому стыдно. С 25 — на 70. А потом маятник вернулся обратно, потому что продолжения не было. И когда сегодня поляки говорят, что они хотят поставить памятник разбившемуся при непонятных обстоятельствах Качиньскому в виде стены длиной 100 метров, Мединский им в ответ говорит: «А мы хотим памятник красноармейцам, погибшим в вашем плену, на главном вашем кладбище — тоже 100 метров». Это уже взаимный троллинг, который не рассчитан ни на какой диалог.
 Кадр из фильма «Катынь» Анджея Вайды© Akson Studio
Кадр из фильма «Катынь» Анджея Вайды© Akson Studio— То есть, очевидно, конфликт будет нарастать?
— Безусловно.
— И тут альтернативы нет?
— Нет.
— И развиваться он будет как взаимный троллинг?
— Да. Тут вопрос в том, какой масштаб, сколько будет стран и ресурсов вовлечено. Потому что до сих пор все-таки были какие-то ударники «антитоталитарного фронта»: прибалтийские республики, Польша, Украина. А мы им, в свою очередь, не уставали напоминать про Холокост и в каком они дерьме по этому поводу. Но теперь-то все это становится более масштабным, то есть теперь уже и в Западной Европе образ России как паука или осьминога вернулся на обложки журналов. Такой был у нас царский режим, такой был сталинский режим, сегодня такой путинский режим, с точки зрения тамошних карикатуристов. И на самом деле происходят очень серьезные подвижки, очень серьезные потери. Вот вам пример: в русской культуре последних десятилетий (и после Второй мировой войны) существовало два образа, или два нарратива, немцев. Был немец со «шмайссером» и в сапогах. И был немец в аптекарском фартуке, в очках — ну или Штольц. И там смешные игры возможны были, потому что энергичного немца Штольца играл такой созерцательный рохля Юрий Богатырев, а Обломова играл настоящий Штольц — Олег Табаков. То есть там возможны были даже смены ролей какие-то смешные. Но так или иначе доминировал образ немца — носителя технологий и знания, профессора, академика, аптекаря, врача, партнерство ради модернизации — всякие такие сюжеты. И на наших глазах за последние три-четыре года этот мотив, этот образ стал уступать место другому — нарративу немца жестокого, доминирующего и так далее. Если бы какой-нибудь мальчик из Нового Уренгоя в 2005 году в бундестаге поговорил о том, что немцев-военнопленных тоже жалко, никто бы даже и не заметил, а если бы и заметил, то дали бы ему пирожок. А сделал он это в прошлом году — и тут же выяснили, кто ему редактировал речь, тут же раскрутили так, что он превратился в предателя Родины. То есть это совершенно другой контекст. Поэтому да, ухудшается со всех сторон. Одно дело, когда у вас Тбилиси, Вильнюс и Рига организуют такие музеи. Ну да, ну как бы противно, неприятно. Но это все-таки локальное явление. Но теперь-то уже Россия однозначно стала «иным», снова «конституирующим иным» в европейском масштабе. Она вернулась в эту роль, и ожили стереотипы прежних времен. Хорошо, про немца со «шмайссером» мы поговорили. А «англичанка гадит»? Она теперь даже имя имеет свое конкретное, эта Тереза Мэй, эта англичанка, которая гадит. Это же вернулось, ничего нового нет. Почитайте Джозефа Конрада: там же русские террористы у него. И сейчас тоже русские террористы.
— Вот эти взаимные залпы исторической политики — они же прямо влияют на внутриполитическую повестку и задают определенный смысл уже государственной политике памяти внутри России. Это влияние способствует единству, согласию в обществе или, наоборот, еще больше усугубляет раскол российского общества?
— Я бы не так ставил вопрос. Память совершенно не обязательно должна способствовать согласию. Особенно когда у вас есть очень трудные вопросы. Это, например, признают испанцы, которые до сих пор более или менее придерживаются табу на обсуждение Гражданской войны. Времени-то ведь прошло достаточно. А у нас проблема заключается в том, что квазилиберальный дискурс демонстрирует культ вуду, где говорится о том, что, пока мы не выроем Сталина из могилы, у страны нет будущего. Это совершенно магические заклинания. Будущее России в очень малой степени зависит от того, выроем мы Сталина из могилы или нет, зароем мы Ленина или нет. Вот эта травма — с моей точки зрения, крайне мифическая вещь. Особенно в исполнении «Кривого горя» Александра Эткинда и так далее. То есть с научной точки зрения не выдерживает никакой критики. В каких-то случаях это просто совершенно идиотские инициативы. Например, «Бессмертный барак». Он был создан в ответ на «Бессмертный полк».
 «Бессмертный полк». Москва, 2014© Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
«Бессмертный полк». Москва, 2014© Юрий Мартьянов / Коммерсантъ— Скорее, в ответ на огосударствление «Бессмертного полка».
— Нет, именно в ответ на «Бессмертный полк». И если вы хотите бороться с огосударствлением «Бессмертного полка», вам совершенно не обязательно создавать «Бессмертный барак» и высмеивать название «Бессмертный полк», профанировать его. Боритесь против огосударствления «Бессмертного полка», если сможете. Это другой совершенно вопрос. А создать «Бессмертный барак» в пику «Бессмертному полку», на шествия которого выходят сотни тысяч людей, вовсе не сгоняемых туда властью, — это идиотизм. Это просто превращение себя в какую-то геттоизированную, подвергаемую остракизму группу. С моей точки зрения, это чудовищно. Когда у тебя вообще нет положительной повестки дня, а есть только совершенно импульсивные реакции на любое событие, или движение, или явление, которое работает через какую-то положительную память или что-нибудь еще в таком роде.
Дело в том, что тема огосударствления — безусловно, очень серьезная. Если мы посмотрим на первые десятилетия XXI века, то у нас если государство что-нибудь говорит про прошлое — президент что-нибудь скажет, может, изредка (даже не только при Борисе Ельцине, потому что Ельцин пытался вести суд над КПСС, провалился и после этого старался историю не трогать). Потом интерес власти к истории вернулся, и постепенно власть училась, как брать под контроль разные общественные инициативы. Два примера — это «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Или создание квазинезависимых от власти НКО, как бы транслирующих разные голоса власти, начиная с фонда «Историческая память», который сосредоточен на объяснении прибалтам и полякам, какое они говно. У него хорошо получается, кстати. В том смысле, что он копает реальные материалы, которые разрушают мифологические конструкции, что они якобы не сотрудничали с Гитлером или не участвовали в Холокосте и так далее. Как раз здесь ничего другого не требуется, кроме как говорить правду. Это очень удобная позиция для пропагандиста. Но есть у нас Российское историческое общество, и есть Российское военно-историческое общество. То обстоятельство, что их два и что одно ведет себя более или менее спокойно, а другое ведет себя, по меньшей мере, скандально, не должно нас вводить в заблуждение. Это две руки власти. И я думаю, что власть не очень озабочена тем, чтобы транслировать какую-то единую линию в истории, потому что у нее нет этой единой линии.
— А тема Великой Отечественной войны?
— Тоже не единая линия. Мы можем сказать, что жалеем о пакте Риббентропа—Молотова, а потом можем сказать, что не жалеем. То, что есть Великая Отечественная война, и то, что наш народ героический в этой войне, — это не единая линия власти, а единая линия всего общества, за исключением тех идиотов, которые пытаются ей противостоять. Разногласия начинаются по поводу роли Сталина в войне. Но суть того, что хочет власть, — не навязать единую линию трактовки. Много лет назад я узнал, что в одно и то же время Администрация президента финансировала изготовление знаменитого учебника Александра Данилова и Александра Филиппова и изготовление двухтомника Андрея Зубова... В одно и то же время, из одного и того же окошка. Надо, что называется, знать матчасть. Изначально ведь книга Зубова тоже планировалась как учебник. Было соревнование двух команд, которые готовили учебники. Изначально позиция Зубова была выигрышной, потому что у него был патрон в лице Солженицына. Когда Солженицын увидел первые результаты, он сказал: «Извините, без меня». В результате это вышло не как учебник, а как двухтомник, который получил большую популярность, что свидетельствует о совершенном отсутствии квалификации, вкуса и чувства чести у российского читателя. Потому что это совершенно неквалифицированное сочинение. Крайне тенденциозное, полное ошибок, именно фактических, и, безусловно, насквозь идеологическое. Кстати, эта история повторилась, когда были созданы Ельцин-центр и его нарратив, вполне идеологический. А потом ему навстречу выкатились парки «Россия — моя история», построенные по тому же принципу, вполне идеологическому, только наоборот. Тут-то наши квазилибералы завопили: ах, какой кошмар! А почему вы ничего не говорили про историческую экспертизу Ельцин-центра? Вас устраивала ваша экспертиза. А когда вы закричали от имени Вольного исторического общества: хотим экспертизу «России — моей истории» — вам сказали: есть экспертиза историков, она была сделана, только это не ваши историки. То есть на самом деле прошлое людей не объединяет, а колет. Когда росло число членов Евросоюза, они же тоже в тот момент носились с идеей, чтобы сделать прошлое таким клеем для Евросоюза. Они проводили анкетирование среди каких-то историков, интеллектуалов. Эти анкеты опубликованы в журнале «Транзит». Я был единственным, кто сказал: «Ребята, у вас ничего не получится». Прошлое не может быть основой для единства. Основа для единства — это настоящее и будущее. Если у вас есть ясность, каким будет будущее, — у вас есть ясность, как интерпретировать прошлое. Пока ясности с будущим нет, о каком единстве в интерпретации прошлого вы говорите? В результате получилось, что у нас прошлое — это пространство проявления взаимной ненависти. В 2013 году была готова программа, которая должна была стать программой государственно-общественного партнерства по коммеморации жертв коммунистического режима. Ее готовили Сергей Караганов и Совет по правам человека. Им удалось посадить за один стол, в одну программу системных либералов, несистемных либералов, попов, очень разных людей, которые в других обстоятельствах не сели бы вместе. И эту программу зарубили — на фоне этого нагнетания напряженности. И, когда ее зарубили, Сергей Пархоменко выступил с заявлением, что «вот и хорошо, потому что теперь всем становится ясно то, что я говорил с самого начала: никакого сотрудничества с государством быть не может и не должно быть». Поэтому мы будем прикручивать свои таблички в рамках «Последнего адреса» и будем понимать, что мы — партизаны на враждебной территории. При том что «Последний адрес» — замечательная и очень нужная программа.
В этой истории все совершают постыдные поступки: и те, кто рубит эту программу, и Пархоменко, который этому радуется. Потому что, если бы удалось наладить какое-то адекватное государственно-общественное партнерство в коммеморации, получилось бы здорово. А так программу как бы реанимировали в 2015 году, но составляющая общественного партнерства уже была утеряна. В результате количество денег, собранных обществом на памятник на проспекте Сахарова, оказалось мизерным. Это не стало памятником, который общество строило вместе с государством. А это ведь именно так и должно было быть. То есть прошлое — это площадка, на которой можно поругаться — это мы умеем очень хорошо, — или площадка, на которой можно как-то в чем-то сойтись. Но этого мы не умеем.
Задача власти, как она ее понимает, — не провести какую-то единую линию интерпретации прошлого, а контролировать «поляну», условно говоря. Контролировать публичный дискурс. Если в центре этого публичного дискурса Российское военно-историческое общество будет ругаться с Российским историческим обществом, то это прекрасно, считает государство. Они между собой ругаются, все смотрят, мы контролируем. Мы ругаемся понарошку. Власть — это инстинктивная вещь. Когда люди стали демонстрировать скорбь, связанную с Кемеровом, власть не была против демонстрации скорби: она была против несанкционированной демонстрации скорби. Как же это: демонстрация скорби — без нас? Поэтому мы организуем место, куда надо принести цветочки, мы организуем место, где поставить свечку. Это мы должны сделать. Вот это стремление власти контролировать дискурс — оно инстинктивное, оно типичное, и это вовсе не только российский феномен. Обращаю ваше внимание, например, что два из трех прибалтийских музеев оккупации или геноцида были частными изначально. А теперь они все — государственные. Почему? Как так случилось? То есть это стремление власти самой определять повестку дня.
И в этом смысле, поскольку мы умеем ругаться и не умеем договариваться между собой, очень показательно то, что случилось в 2017 году. Я считаю, что власть сработала очень эффективно. У нее вообще не было никакого послания обществу. Путин свое отношение к революции высказал: революция — это плохо, это всегда плохо. Он порассуждал, какое положительное действие Октябрьская революция и то, что за ней следовало, оказали на страны Запада, где появилась сильная социал-демократия. Но Россия от этого ничего не выиграла. И это он сказал как частное лицо, это не было официальным выступлением президента. А дальше было сказано: хорошо, пожалуйста, конференцию хотите — проводите свою конференцию, книжку хотите издать — издавайте свою книжку. Государство фактически не участвовало. Были выделены какие-то деньги, было сказано, что конференции можно, выставки в музеях можно. Как, что вы сделаете — ваше дело.
— Не просто можно, а даже нужно.
— Нет, вы понимаете, когда нужно, тогда постановление о том, как праздновать очередной юбилей Победы в Великой Отечественной войне, принимается в 2013 году и во главе комиссии становится Путин. А здесь постановление было принято в декабре 2016 года — за два месяца до юбилея Февральской революции, и Путин не возглавил никакой комиссии. И ни одного памятника — ни красным, ни белым, ни примирению и согласию — не было поставлено. Путин открыл два памятника в 2017 году — жертвам коммунистических репрессий и Александру III, а еще восстановленный крест на месте убийства великого князя Сергея Александровича в Кремле. Вот вам — как государство в 2017 году осуществляло монументальную пропаганду. И, с моей точки зрения, это было очень удачно. Потому что власть, с одной стороны, не навязывала какого-то единого нарратива, дала всем высказаться, кто хочет, при этом опустила уровень всего этого таким образом, что все это не переросло в гражданскую войну памяти. Все поговорили — и разошлись, ничего не случилось. Главным бенефициаром и игроком выступила церковь. Почему церковь оказалась такой эффективной? Потому что у церкви много говорящих голов, каждая из которых озвучивает свою линию для определенного сегмента населения. Чего никак не могли понять так называемые демократы, которые вообще не умели с населением разговаривать. Можно проследить, как это было. Потому что когда обнаружилось, что можно выставить пояс Богородицы и к нему выстроится очередь на 24 часа, в этой очереди люди будут стоять, ее можно организовать, там людей можно кормить, они будут общаться друг с другом и на фоне этой очереди всяческие белоленточные движения будут выглядеть достаточно смешно по своему масштабу, — это уже был импульс. После чего под эгидой епископа Тихона (Шевкунова) были сделаны эти выставки — сначала пробные, на Манежной площади. Они были бесплатными, люди стояли по три-четыре часа в очереди, их посещало по 250—300 тысяч человек за две недели — безумное количество людей. При том что на этих выставках не было никаких артефактов — это все нарративные выставки. Для России это новость. Но если вы посмотрите на музеи геноцида или Голодомора, то обнаружите, что они организованы ровно по такому принципу.
— Музей оккупации в Тбилиси по-другому все-таки сделан.
— Не знаю, не видел. Но Музей оккупации в Риге — чисто плакаты и визуальные какие-то вещи. Может быть, один-два каких-то предметика. Ющенко свою голодоморную выставку делал чисто плакатами. Вот здесь они, конечно, сделали не плакатами, а с помощью мультимедиа — сделали отлично. На народ действует.
 Музей советской оккупации в Тбилиси© Александр Климчук / ТАСС
Музей советской оккупации в Тбилиси© Александр Климчук / ТАСС— Отлично — в смысле того, как это выглядит. А в смысле содержания?
— Отлично — в смысле качества исполнения. И в смысле содержания тоже: людям нравится, люди ходят. А то, что вам не нравится или мне не нравится, — это уже оказалось неважным. Политика памяти, все эти сюжеты вообще в течение длительного времени считались прерогативой образованных людей. А Владимир Мединский первый стал продвигать линию, что с «этими» и не договоришься никогда. Раз они на «Бессмертный полк» отвечают «Бессмертным бараком», пусть и сидят в своем бессмертном бараке. А мы будем делать наши выставки. И был по-своему прав. То есть если вы постоянно занимаетесь тем, что плюете соседу в глаз, то сосед начинает игнорировать ваше мнение, считая, что вы абсолютно недоговороспособны. Я считаю, что в это гетто оппозиция загнала себя сама. И на самом деле эта линия, что надо об истории с людьми говорить, простыми более или менее, была признана правильной, потому что та серия, в которой вышла ваша книжка, — это, что называется, «наш ответ Чемберлену». Идея, что мы должны издать книжки для широкого читателя, без сносок, написанные не заунывным языком, для «Нового литературного обозрения» выглядит очень странно, понимаете?
— Почему странно?
— Никогда у них не было такого. А теперь есть. Это признание того, что серия «Что такое Россия» — это ответ на «Россию — мою историю».
— Ну не только ведь. Еще и на Старикова, Носовского, Фоменко — на всю эту «историю в мелкий горошек».
— На Носовского и Фоменко это не ответ, на Носовского и Фоменко отвечал академик Зализняк. Так что «Что такое Россия» — это ответ на «Россию — мою историю». Я рад этому ответу, я в эту серию собираюсь писать книжку. Но я рад не в том смысле, что мы наконец-то дадим ответ на «Россию — мою историю» и разрушим эти 30 выставок. Мы их не разрушим. Но мы хотя бы начнем говорить нормальным, человеческим языком с нормальным читателем, выведем историков из гетто, куда они сами забрались. То есть я одобряю.
Мы говорим о том, что из сложного поиска какой-то правды, которая объединяет изначально различные позиции, мы пришли к голосу, обращенному к массе. Думаю, что войны памяти продолжатся в разных исполнениях, причем не только в России. Например, студенты в Штатах требуют, чтобы из силлабуса убрали «этих белых мужчин», которые там доминируют, или требуют снять памятник Конфедерации. Или буквально несколько месяцев назад в Оксфорде развернулся скандал: профессор этики написал статью, которая анонсировала проект про то, что бесконечная череда покаяний за грехи империи парализует нашу способность действовать сегодня. Интересная постановка вопроса. Он совершенно не рассчитывал на положительную реакцию многих коллег, семинар он организовал только по приглашению, но тем не менее коллеги возбудились, написали коллективное письмо, которое подписало довольно много народу, человек 20—25: мол, мы, преподаватели Оксфордского университета (от себя добавлю: в духе постколониализма), осуждаем, не разделяем и требуем, чтобы он не выступал от имени Оксфордского университета. Получается, что дискуссия об империи — хорошо/плохо/как, которая, казалось бы, уже дискуссия прошлого, во многом становится, собственно, вопросом политкорректности сегодняшнего дня, групповых антагонизмов, требований больше его не печатать или если печатать, то чтобы он не упоминал, что он — преподаватель Оксфордского университета. То есть мы все время антагонизируемся. Вот эта агонистская культура, когда речь не о том, что у тебя своя правда, у меня своя, давай поговорим и выясним, где эти правды сопрягаются. Нет, у меня правда, а у тебя кривда. И я сейчас докажу, почему я прав, а тебе должно быть стыдно, причем не тебе докажу, а своей собственной аудитории, к которой я тебя уже и не допущу более. Такова логика сегодняшнего поведения. И она пронизывает всю политику памяти со всех сторон. А у нас это выливается в то, что Мироненко говорит, что не было 28 панфиловцев, а Мединский ему отвечает: ты документы хранишь — вот и храни, не твое собачье дело. Пусть это миф, но этот миф реальнее, чем реальность. Что такое правда? Вот эти твои бумажки правда? Или то, что 25 миллионов молодых людей верят в героев-панфиловцев и готовы при нужде тоже научиться стрелять из противотанкового ружья? Вот Мединский считает, что это бóльшая правда, чем те бумажки, которыми трясет Мироненко.
— Мединский и шевкуновские выставки — это по-прежнему только желание контролировать повестку исторической памяти?
— Мне кажется, что не надо это совмещать. Потому что Мединский, в общем, — эффективный манипулятор, но хам и дурак. Его инициативы все время вызывают скандалы и больше ничего. Шевкунов очень умный, умеет свою позицию аргументировать, готов говорить с оппонентом. Он вышел к Световой и дал ей интервью, чего Мединский никогда бы не сделал, да еще в таком ключе, как Шевкунов, — уважительном, но при этом обезоруживающем. И я думаю, что в этом смысле это очень разные вещи. Шевкунов двигает свою концепцию. Эта концепция оказывается созвучной современной ситуации. Когда Шевкунов говорил о том, что Запад — это источник угрозы, в этом фильме смешном про Византию, с точки зрения историка было смешно его критиковать, потому что он вообще был очень смешной. Но он продолжает эту линию в современных выставках, которые, конечно, существенно более аккуратно сделаны с исторической точки зрения. Но что самое главное — в концепции российского Министерства иностранных дел в 2013 году был тезис о месте России в Европе. А в концепции 2016 года уже этого тезиса нет. Тогда получается, что то, что говорил Шевкунов в 2007—2008 годах, — это была такая публицистика, а сегодня это, что называется, линия партии.
— Выходит, что Шевкунов — это желание государства не просто контролировать, а направлять и даже определять?
— Нет. Хитрость заключается в том, что Шевкунов — это даже не государство. Шевкунов — это церковь. Выставки не считаются государственными, при том что мы понимаем, что деньги государственные. Но точно так же Ельцин-центр не считается государственным, а деньги там — государственные. В этом смысле государство не подписалось под концепцией Шевкунова, но сказало, что концепция полезная, и дало построить эти 30 выставок.
— И эта концепция, получается, войдет в учебники истории, а не концепция Ельцин-центра?
— Вполне возможно. С моей точки зрения, и то и другое было бы одинаково вредно. Степень субъективности и партийности нарратива Ельцин-центра сравнима с субъективностью нарратива «России — моей истории». И злой человек сказал бы: не мы начали!
— Дальше государство будет еще активнее в политике памяти?
— Безусловно.
— А кто сейчас продумывает государственную политику памяти?
— Если б я знал!
— Может, тогда это только кажется, что продумывают?
— Нет, продумывают. Думаю, что продумывают. Есть какие-то люди, которые смотрят, оценивают различные варианты. Думаю, что они мониторят какое-то пространство идей. Иногда с каким-то лагом во времени обнаруживаю вещи, которые я произносил, как мне казалось, новые, оригинальные. Где-то лет пять-шесть назад я стал говорить: вы поймите, есть специфика у России — она 400 лет не теряла суверенитета, и это та ценность, на которой сходится большинство русского населения. Суверенитет и статус великой державы. И тот, кто будет использовать эти две ценности, будет силен. Сейчас это уже общее место. Я не говорю, что это они у меня взяли, потому что параллельно со мной на это, возможно, обратили внимание еще какие-то люди. Но просто надо понимать, как это работает, что резонирует у людей.
— Был доклад Вольному историческому обществу «Какое прошлое нужно будущему России», который очень активно обсуждали. А если немного пофантазировать и представить себе, что эти самые люди, неизвестные, но, очевидно, стоящие за государственной политикой памяти, писали доклад на эту тему, что бы они написали?
— Они бы не стали такой доклад писать. Они бы стали делать политику. Это две большие разницы. Я с большим скептицизмом, как вы знаете, отношусь к этому докладу. Не случайно доклад, который навязывался как доклад от имени Вольного исторического общества, последнее отказалось публиковать в таком виде и сказало, что это будет доклад «обществу», а не «общества». Я считаю, что этот доклад неквалифицированный и что люди, которые его писали, — и не историки, и квалифицированными политологами не являются. Поэтому рассуждать о политике памяти — на каком основании? На основании того, что один из авторов — недоучившийся философ? Это довольно странно.
— А если бы Алексей Ильич Миллер писал такой доклад?
— Я не писал бы такого доклада. Ни в коем случае. Я в течение многих лет занимаюсь изучением политики памяти. Ввел в русский язык понятие исторической политики, рассказал, откуда оно взялось, рассказал, какие метаморфозы оно претерпело, сказал, с моей точки зрения, довольно существенные в операционном смысле вещи про российскую политику памяти, был автором многих статей, монографий и так далее. Но доклады типа «Какое прошлое нужно России» я бы писать не стал. Когда я сталкиваюсь с книгой, которая мне кажется полезной, важной, нужной с точки зрения подхода к памяти, я об этом говорю. Например, книга Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Она показывает, что и в условиях жесткого столкновения люди способны сохранять человеческое достоинство и конвенциональное ограничение. Не пытают, не издеваются над пленными, не добивают. И это очень важно, потому что вместо разговоров о том, как «красный» с «белым» обнялись и поцеловались (в стиле Мединского), такая книга, если ее прочитают люди, станет отправной точкой к серьезному размышлению. Потому что мы как бы знали, что есть люди, которые, когда красные были в городе, ходили просить за белых. Когда белые — ходили просить за красных. Но это одно. Они воюют, а Макс Волошин сидит у себя в башне и пишет стихи. А это два человека, которые воюют, но тем не менее они оба — рыцари в какой-то степени. Или совершенно другой пример, не в такой философской манере. Вот Борис Колоницкий написал книжку «Товарищ Керенский». Что там показано? Там показано, как в этом обществе, которое только что скинуло царя и живет в условиях либеральной революции, под властью так называемого либерального Временного правительства, появляется культ вождя. Не появляется даже, а строится совершенно сознательно. И тогда возникает вопрос: чего вы на Сталина, на Ленина наехали? Это не они придумали. Не большевики это придумали. Это, что называется, Бог придумал для России. Вот такое несчастье, да. Тогда возникает вопрос: надо ли было так радоваться исчезновению монархии? Я не пытаюсь рассказать обществу, какая память нужна; я пытаюсь понять и показать обществу, как эти механизмы работают, кто в них участвует. Я же не работаю на Мединского. Но я и не работаю против Мединского. То есть он мне не нравится. Если его отправят в управдомы, я буду только за. А лучше вообще — на площадь трех вокзалов без выходного пособия. Но при этом я не играю на стороне какой-то партии в этом розыгрыше. Именно потому, что я хочу смотреть на это и видеть, как кто играет. И я не вижу никакой партии, за которую мне бы хотелось сыграть. Я с удовольствием поучаствую в установке таблички «Последнего адреса». Это хорошее дело. Но кричать о том, как хорошо, что любые попытки сотрудничества общества с государством провалились, как это делает Пархоменко, — с моей точки зрения, полный идиотизм. Вот поэтому я не писал бы такого доклада. Память — это пространство спора и диалога. Она тогда и живая. Другое дело, что в этой памяти не должно быть каких-то ложных ультимативных тем: вот если мы завтра не выкопаем Сталина, то у нас ничего хорошего не будет.
— То есть вы не верите в символы? Выкопанный Сталин — это разве не сильный символ?
— Это сильный символ. Только он ничего не решит. Потому что на вашу бригаду, которая выкопает Сталина, придет другая бригада, наваляет этой бригаде, выкопавшей Сталина, и зароет ее вместе со Сталиным. В курган. И еще туда какого-нибудь скифского золота положит для полноты картины. Если мы сегодня посмотрим фильм, откуда этот образ, — «Покаяние», то мы увидим, какой он напыщенный и, в общем, неумный.
— Ну это нормально, что мы так о нем думаем сейчас.
— Это нормально, но тогда не носитесь с этим выкапываем Сталина, ради бога! «Какая дорога ведет к храму?..» Тогда почему-то вся либеральная интеллигенция хотела найти дорогу к храму. Но когда оказалось, что в этом храме уже сидит поп и место попа уже занято, они стали говорить: какой кошмар, что, оказывается, попы участвуют в общественной жизни! Это ужасно раздражает. У нас очень много в этом пространстве мифов. В том числе таких: у нас одних ничего не получается, а у всех остальных все хорошо получается. Немцы покаялись. Начнем с того, что 15 лет немцы вообще отказывались говорить об этом после 1945 года. Даже больше. Европа о своем участии в Холокосте отказывалась говорить до 80-х — 90-х. Вот эта демократическая, красивая, мытая, стриженая Европа с чистыми ногтями, с процветающей экономикой и уверенная в себе. Вот на картинках, на фотографиях были какие-то люди в шапках французских жандармов, которые куда-то ведут евреев, но французы ни в чем не участвовали! Это можно было — в течение десятилетий глядя на эти картинки, говорить о том, что мы ни в чем не участвовали, и наконец признаться в 1995 году. И до сих пор можно рассуждать о том, какая Европа успешная, модернизирующаяся, вот такая особенная, замечательная, и умудряться не говорить о том, что в основе глобализации, модернизации и всех этих вещей лежат работорговля и колониализм. А немцы, которые якобы все сделали очень правильно, на самом деле далеко не сделали свою работу. Для этого достаточно посмотреть на ратушу в Бамберге. Это самое красивое здание в городе. Оно находится на мосту, там висят три мемориальные таблички. На одной написано, что это в память об антифашисте Клаусе фон Штауффенберге, который пытался убить Гитлера. И Штауффенберг так становится антифашистом. Другая табличка говорит, что она — в память стольких-то жителей Бамберга, которые погибли в бомбардировке, — женщин и детей; стольких-то тысяч с точностью до одного жителей Бамберга, которые пали на полях войны, то есть солдат вермахта; стольких-то тысяч пропавших без вести. А рядом еще одна табличка в память о евреях — жителях Бамберга, которых теперь нет. Их даже никто не удосужился посчитать. То есть своих мы посчитали с точностью до одного, а евреев — ну кто считает, ну были — теперь нет, жалко, конечно. Тем более что это нас все время обвиняют, что это мы в чем-то виноваты. И когда три такие таблички ты видишь, то понимаешь. А еще можно узнать, что в течение более 10 лет власти Мюнхена не разрешали ставить камни преткновения, потому что считалось, что они становятся скользкими при дожде. Поэтому не надо рассказывать, как у всех успешно. Было как-то такое мероприятие в Москве, которое организовали немецкий и польский послы, про политику памяти. Они почему-то позвали меня выступить от российской стороны. И они долго говорили про то, как поляки и немцы работали над примирением, и предлагали поучить нас, как мириться. Было это, если я правильно помню, в 2012 году. Я сказал, что нас не надо учить, потому что мы и без всяких писем епископов простили немцев. А письмо епископов с поляками у нас было. Но оно ничему не помогло. А дальше я сказал, что вот сейчас придет Качиньский и все это ваше примирение пойдет псу под хвост. Это даже есть в интернете, можно поискать и посмотреть. И я был прав. Потому что я изучаю политику памяти и знаю, как это устроено. Что с примирением надо работать. Что всегда существуют два нарратива. Это то, с чего мы начали. И вот мы сейчас на наших глазах совместными усилиями с немцами разрушаем какие-то свои достижения и приходим ко взаимной ненависти. Вот так. И теперь уже нам рассказывают про то, как немецкий солдат вошел в хату, плакал ребенок, он его голову разбил о косяк и лег спать. Нам этих историй не рассказывали последние 25 лет. Они были? Были. Их рассказывали 25 лет? Не рассказывали. А теперь рассказывают. А с другой стороны, оказалось, что советские солдаты изнасиловали 2,5 миллиона немок. Была у меня такая история: мне позвонило радио BBC, Украинская служба, под 9 Мая и говорит: хотим поговорить с вами о 9 Мая. Я уже понимал, чем все кончится. Они сразу вышли на мотив изнасилования как главного достижения 9 Мая. Я им сказал: смотрите, ребята, вы на Украину вещаете, давайте так. В той доблестной Красной армии, которая освободила Германию, примерно четверть составляли украинцы. Соответственно, есть подозрение, что примерно четверть от общего числа немок изнасиловали они — 500 тысяч. Попросите вашу аудиторию покаяться, потом доложите мне о результате — и мы поднимем эту тему здесь, в России. Передача не вышла в эфир. Вот мы видим, как распадается пространство. Никто ни с кем не хочет говорить. Разговор превращается в провокацию или троллинг. Все, мы приплыли.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости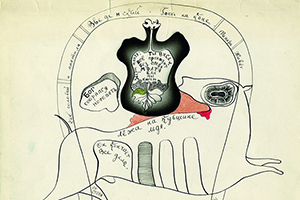 Литература
Литература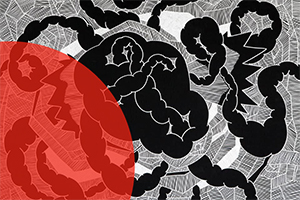 Colta Specials
Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту
20 января 20225972 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Молодая Россия
Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего
18 января 20222273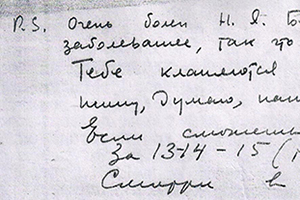 Литература
Литература Общество
Общество Искусство
ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции
17 января 20225625 Академическая музыка
Академическая музыка Искусство
Искусство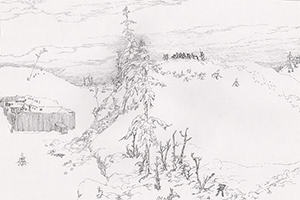 Литература
Литература Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа
13 января 20229007