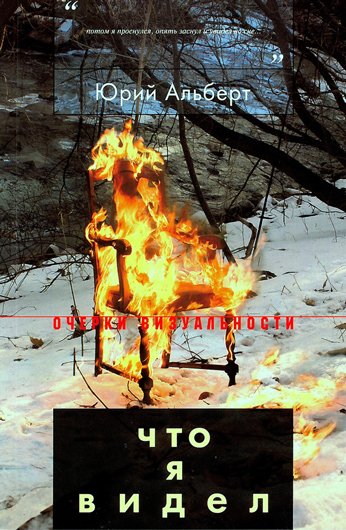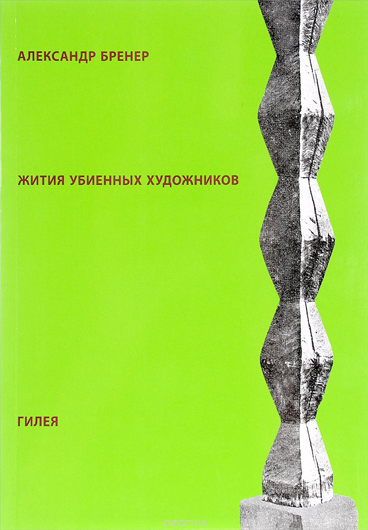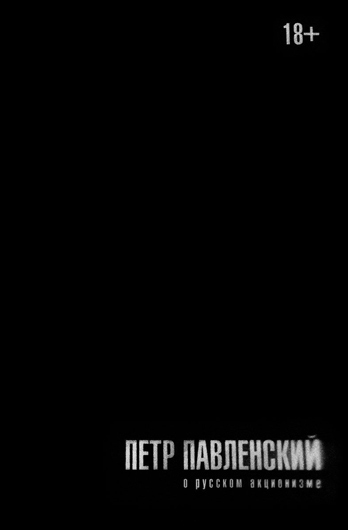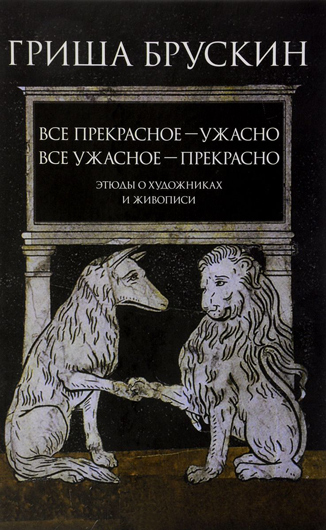Летом прошлого года Фонд Михаила Прохорова и нижегородский центр современного искусства Арсенал придумали региональный вариант литературной премии «НОС», учрежденной фондом более десяти лет назад, — «Волга/НОС». Проект вызвал большой интерес — и множество споров; мнения были высказаны самые разнообразные. Продолжая «Волгу/НОС», учредители решили этой весной организовать специальный проект, посвященный текстам художников. Обновленное нижегородское жюри рассмотрит изданные с 2009 года десять книг, которые были сочинены (или наговорены) современными художниками, и решит, какая из них — согласно определению жюри — является «самой современной книгой современного художника». Таким образом, арт-литературный спецпроект соотносится и с премией «НОС» (один из вариантов расшифровки ее названия — «Новая отечественная современность»), и с ежегодным «Вазари-фестом» (фестиваль текстов об искусстве), который проводится Арсеналом.
Вот десять книг, отобранных для обсуждения жюри спецпроекта премии «Волга/НОС» (следует отметить, что данный список ни в коем случае не представляет собой «лучшие» — или даже «самые интересные» — тексты художников, выпущенные за последнее десятилетие; с точки зрения организаторов, это книги, весьма характерные для данного социокультурного момента).
- Юрий Альберт. Что я видел. — М.: НЛО, 2011.
- Александр Бренер. Жития убиенных художников. — М.: Гилея, 2016.
- Гриша Брускин. Все прекрасное — ужасно, все ужасное — прекрасно. — М.: НЛО, 2016.
- Эрик Булатов. Горизонт. — Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2013.
- Валентин Воробьев. Леваки. — М.: НЛО, 2012.
- Инспекция «Медицинская герменевтика». Пустотный канон. Т. 1—2. — Вологда: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2014.
- Петр Павленский. О русском акционизме. — М.: АСТ, 2016.
- Виктор Пивоваров, Ольга Серебряная. Утка, стоящая на одной ноге на берегу философии. — М.: НЛО, 2014.
- Леонид Тишков. Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта. — М.: ОГИ, 2013; МИФ, 2015.
- Андрей Хлобыстин. Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины XX века. — СПб.: Борей-Арт, 2017.
О самой идее проекта, о текстах художников как жанре, о книгах, которые будут обсуждать 23 мая в Нижегородском Арсенале, куратор «Волги/НОСа» Кирилл Кобрин поговорил с председателем нижегородского жюри, художником, поэтом и дизайнером Евгением Стрелковым.
Кирилл Кобрин: Женя, давай начнем с тебя лично, ибо ты в своей деятельности воплощаешь то, что Виктор Пивоваров определил как «любовь слова и изображения». Ты как бы стоишь на двух ногах: одна опирается на твердь арта, вторая — на гранит поэзии. Не разъезжаются ли ноги? Если нет, то почему?
Я понимаю, конечно, что тут может быть и еще одна точка зрения, еще один подход. Называется он «дизайнерский» — а ты ведь еще и книжный дизайнер. Из этой перспективы словá, наверное, важны не столько своим значением, сколько своей, так сказать, внешней формой, своей визуальностью. Но все же — если речь не идет о совсем уж агуманном и даже тупом ультрасовременном дизайне, где слова трактуются исключительно как закорючки, не имеющие смысла, — значение слова сохраняется, однако оно во многом зависит от внешней формы. И тогда мы попадаем в Китай, Японию и Корею (в меньшей степени — в арабский мир), то есть в те культуры, где визуальное в слове (в дальневосточном варианте — в иероглифе) определяется содержанием — и наоборот. Это там так слито, что не разделишь. Оттого высокая древнекитайская поэзия непереводима на европейские языки, к примеру. Соответственно, еще раз первый вопрос: в какой из трех позиций ты находишься сам? И только после этого мы перейдем к текстам художников, которые рассматривает и изучает возглавляемое тобой жюри.
Евгений Стрелков: Кирилл, если обо мне говорить, то, наверное, самый подходящий аналог — химический крекинг. Есть сырье — какая-то запавшая в душу тема. Скажем, павильон Крайнего Севера на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде, где устроили небольшой человеческий вольер — выставили пару «самоедов», мужчину и женщину, рядом с ледяным бассейном тюленя Васьки, чучелами оленей и моржа, всевозможными предметами охоты и рыбной ловли. Узнав подробности подобной истории (почему? как?), я уже могу пересказать ее в своем путеводителе (или документальном ролике) — это самая тяжелая фаза, вроде мазута. Потом вдруг появляется (или не появляется) художественная идея — и весь сопутствующий ей инструментарий: возникает графическая серия, книга художника — бензин/керосин. Но процесс идет дальше, и не исключено (хотя и не обязательно), что образуется и более легкая фракция — поэтический эфир. Он вроде бы о том же, но в своей системе, а значит, конечно, по-другому… Такие ряды «фракций» у меня были несколько раз по наиболее зацепившим меня поводам: волжские водохранилища («Сирены», «Сирены: каскад», «Шлюз»), генетические исследования («Мушиный квартет», «Мушиная песнь»), советский атомный проект («Третья идея»), история Нижегородской радиолаборатории («Утро радио», «Радио “Эра”»), радиоастрономия («Троицкий»), отечественная натурфилософия XVIII века («Таблица Гмелина», «Подражание Ломоносову») и так далее. Тема больше «языка» (графики, фильма, стиха), и она поочередно обыгрывается в разных «средах». (Как в котлах воды студеной, воды вареной и кипящего молока, если вспомнить ершовскую сказку «Конек-Горбунок».)
Иероглиф — да, это хороший аналог, но он в моем случае «коротковат». Длинная история в иероглиф не уложится, а у меня истории довольно длинные. (Хотя с иероглифами я поработал в аудио-графически-поэтическом проекте «Китайская грамота».) Так что ноги не разъезжаются, потому что на разных опорах не сразу, а по очереди. Хотя есть у меня и гибриды/химеры — то, что зовется «книга художника», когда (небольшой, как правило) текст сопутствует изображению (и материалу/технологии, что важно). Здесь есть своя традиция, идущая от Уильяма Блейка, например. А в отечественном — от Хлебникова. Но это все-таки не дизайнерские решения, а художественные. (Хотя дизайн как оформительская структура неизбежно попутно возникает, просто задача тут — не оформление.)
Кобрин: Замечу, что я не снижал понятие «дизайн» и не сводил до просто «дизайна» в современном прикладном смысле (графический или технический и проч.). «Дизайн» — это еще и «замысел», «план», «проект», если посмотреть на значения английского слова design, плюс тут еще и философско-теологическое — Божественный Умысел, Сотворение Мира Богом. Но это так, в сторону.
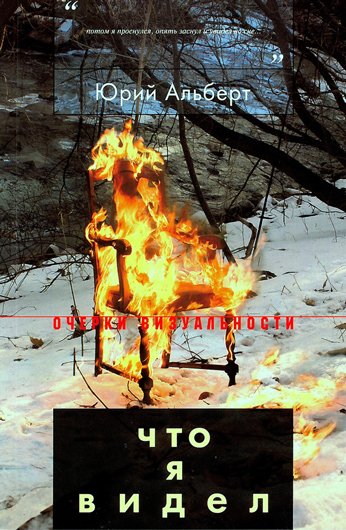 © НЛО, 2011
© НЛО, 2011Теперь же давай перейдем к «текстам художников» — и в общем жанровом смысле, и по отдельности, к тем из них, что сейчас предложены на рассмотрение жюри. Картина, что ты нарисовал в отношении себя самого, здесь не очень работает, как мне кажется. Там ведь немалая часть книг совсем другого происхождения. Это воспоминания или исторические очерки с попыткой объяснить тот или иной феномен (Воробьев, Бренер, Хлобыстин и даже в каком-то смысле Павленский). То есть получается, что для них главное — визуальное, их собственное искусство, которое они понимают романтически-модернистски, а тексты — это продукт как бы второго сорта, хороший, интересный, но дополнительный, опциональный. Это как раз самое любопытное: ведь подобный подход весьма архаичен, по сути, он из прошлого века, даже из первой половины прошлого века. Второй вариант — это даже не теоретические трактаты, объясняющие собственное (и чужое) творчество, а именно теоретическое творчество, столь же важное, что и визуальное. Собственно, как мне кажется, это ближе всего к твоему подходу, но с другой стороны — из концептуализма, только уже позднего и трансформированного внешними влияниями (классический московский концептуализм ведь был «чистым», не склонным абсорбировать что-либо извне, дистиллированным; отсюда параноидальность его литературной инкарнации — Пригова, Сорокина). Таков «Пустотный канон» медгерменевтов. Потом, есть то, что я назвал бы «просто книги». Вот ведь смотри: теоретически каждый из людей, живущих на Земле, может сочинить книжку. О чем угодно. О своих снах. О собачках. И так далее. К примеру, в случае сочинения Юрия Альберта к данной посылке добавляется то, что автор — известный и хороший художник, герои снов — тоже, оттого данное обстоятельство придает определенные вес и значение тому, что он говорит. Причем придает все это для читателя, который знает, с кем имеет дело. Для остальных — ну да, о'кей, еще один рассказывает о снах, big deal… Есть еще жанр, который я условно определю как «мастер делится секретами ремесла и объясняет свои творения и историю искусства как таковую». Жанр заслуженный, почтенный, существующий много столетий — и живой до сих пор, порукой чему — книги Булатова и в какой-то степени Брускина. Особняком — и, как мне кажется, оно самым приятным и свежим образом отличается от остальных, конечно, очень достойных книг — стоит странное сочинение Виктора Пивоварова и Ольги Серебряной. Ну хорошо, Ольга — выученный философ, хотя и не работает на этом профессиональном поприще, но Виктор же совсем другой: для него «философия» — не полочка книг в библиотеке и не какая-то там «мудрость», кем-то сформулированная, а процесс рассуждения на важнейшие для него темы, те, что составляют стержень и его арта. В данном случае визуальное и словесное неразделимы — в словосочетании «текст художника» «текст» невозможно оторвать от «художника» и наоборот. Это моя личная классификация книг списка, предложенного нижегородскому жюри. Наверняка у тебя есть какая-то иная?
Стрелков: Кирилл, я тоже выделил в отдельный пункт переписку Виктора Пивоварова и Ольги Серебряной. Читал ее с удовольствием и не спеша. Привлекают пассажи Ольги, когда она пишет о философии «обыденным» языком, пытаясь адаптировать сложные вещи для не(профессионального)философа. Кант, Лейбниц, Спиноза… при этом Ольга пишет очень кратко (потому что места-то нет, письмо — не лекция) и совершенно не дежурно. Поэтому оценки часто резки, категоричны — и это украшает текст, чувствуешь за ним и страсть (к истине), и глубокое уважение к тем, кто ее, истину, ищет. И требовательность, порой нетерпимость, к тем, кто лукавит или позволяет себе «недумание». Вот, например, такая резкая фраза Ольги: «Я не понимаю, каким надо быть ослом, чтобы видеть в православной церкви семидесятых-восьмидесятых годов островок спасения от советской реальности… Как можно отдаться по собственной воле в руки особого отдела репрессивной структуры, да еще и восхвалять ее на разные лады, мне никогда не понять».
Резкость, кстати, присутствует и в ряде других текстов списка, но там она совсем другая... Я говорю о книгах Бренера и Воробьева. Охаивание товарищей по цеху, хлесткие характеристики всем и каждому — это у Бренера. У Александра Бренера что-то очень личное ко всем остальным художникам, что прошлым, что будущим. Когда он пишет о Калмыкове, Иткинде, Зальцмане (их он увидел алма-атинским юношей) — это его «личное» окрашено слегка недоуменным восторгом: «Ходил по улицам Алма-Аты Павел Яковлевич Зальцман — элегантный, стройный, посторонний. Он был намного приличней Калмыкова и Иткинда, но все же по справедливости считался третьим и последним осколком той мощной эры, когда по планете еще ходили кентавры, рапсоды и Анны Пророчицы. Если у Калмыкова штаны были в таких широких складках, что если б их раздуть, то в них можно было бы поместить весь модернизм с окрестностями, то брюки Зальцмана заключали в себе целую филоновскую школу с далеко разбросанными юртами». Хорошо ведь, емко!
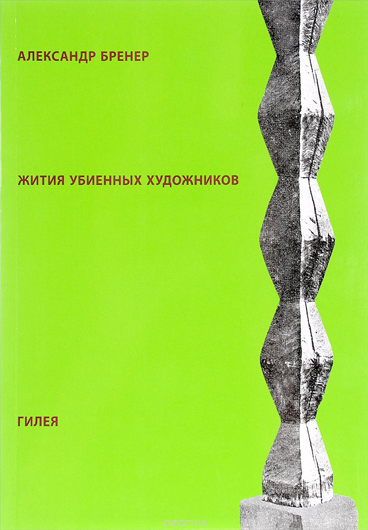 © Гилея, 2016
© Гилея, 2016К концу книги восторг Александра Бренера сменяется нетерпимостью. При всей дикости характеристик, даваемых Бренером «собратьям по кисти», понимаешь, что эти оценки искренни и обусловлены стремлениями высокими. Прямо пророк ветхозаветный перед вами, мечущий словесные молнии в погрязших в грехе приспособленчества…
Воробьев до брани не опускается, но его снисходительность, высмеивание коллег — все это тоже очень домашнее, вроде баек за семейным столом. Правда, для семейности там не хватает теплоты. К слову, когда читаешь записки художников начала XX века (Коровина, Милашевского) — там тоже много об артистической кухне, но как-то мягко, фактурно, любовно... Иначе. Вот, например, едут Коровин с Шаляпиным в пролетке, Шаляпин внезапно тормозит извозчика, тянет Коровина в трактир, начинает угощать расстегаями-пирожками — и вдруг… «Посмотри на мою Волгу, — говорил Шаляпин, показывая в окно. — Люблю Волгу. Народ другой на Волге. Не сквалыжники. Везде как-то жизнь для денег, а на Волге деньги для жизни». Как точно, кратко, выпукло! Словно стекло в этом трактирном окне весенний дождь обрызгал…
Или вот ты вспомнил книгу Юрия Альберта, где сплошь сновидения, а в них почти исключительно художники его круга. Понимаешь, читая, что весь этот «московский романтический концептуализм» — очень замкнутый, тесный, порой душный мир. Но сам прием Юрия Альберта выводит этот монотонный вроде бы материал в другое измерение — к автоматическим текстам сюрреалистов, дадаистов, к их поиску, несомненно, более свежему… И там возможны просто почти поэтические находки: «Приснилось, что я был на выставке Кабакова, причем спросонья мне показалось, что было два сна — вчера и сегодня, а потом я сообразил, что это было два зала выставки».
При всей дикости характеристик, даваемых Бренером «собратьям по кисти», эти оценки искренни и обусловлены стремлениями высокими: прямо пророк ветхозаветный перед вами, мечущий словесные молнии в погрязших в грехе приспособленчества…
Вернемся на время к книге Пивоварова—Серебряной, тоже ведь очень домашней. Философия в их переписке обретает особую убедительность, когда изложение идей перемежается воспоминаниями, порой бытовыми до предела (даже запредельными) — и при этом полными высокой метафизики. Вот, например, такой пассаж Ольги Серебряной: «…Я ушла от мужа. Я тогда была аспиранткой и преподавала в университете на полставки. Прожить на эти деньги было ни в каком смысле невозможно, даже если питаться картофельными очистками, найденными на ближайшей мусорке. Но у меня был какой-то минимальный денежный запас после академической поездки по гранту. Его я и потратила на то, чтобы снять квартиру. Квартира была дешевая, потому что ее населяли невообразимые по численности колонии очень жирных тараканов. <…> И вот однажды вечером я вернулась в этот, так сказать, дом, преодолела все сопряженные с разглядыванием тараканов процедуры (вынуть зубную щетку из футляра, почистить зубы, стараясь не глядеть на раковину, разогнать их с дивана, вытряхнуть из постели и пр. и пр.) и улеглась с книжкой Чехова. <…> И к концу первого же рассказа (не помню какого) я пережила озарение. Вдруг в единый момент куда-то исчезла вся моя предыдущая тягостная жизнь, исчезли семь лет бессмысленного существования с бессмысленным мужем, исчез вечный вопрос “на что жить дальше”, исчезло недовольство собой, исчезли даже тараканы. Жизнь представилась мне радостной, прекрасной, глубоко осмысленной».
А вот пишет Пивоваров: «…Для себя я определил, что искусство — это один из видов познания. Я понимаю, что это очень широкое определение, слишком широкое, но тем не менее, как мне кажется, оно позволяет избежать кучи недоразумений». Словом, оба собеседника стараются избежать недоразумений на пути к познанию и при этом избежать также общих мест и всяческого лукавства — совершенно достойная задача.
И вот этой сдержанности и смиренности я не нахожу в книге Павленского. Там автору все ясно заранее, он просто стремится транслировать эту ясность. Что ж, мы знаем и такого рода манифесты, взять хотя бы Маринетти — было бы талантливо…
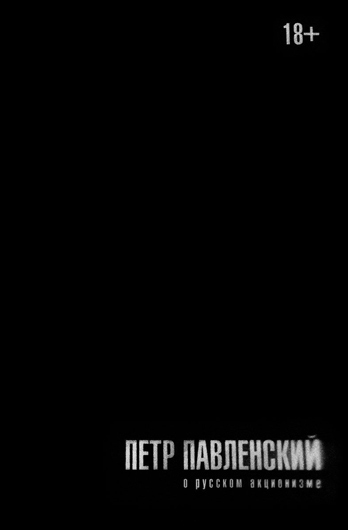 © АСТ, 2016
© АСТ, 2016Кобрин: Знаешь, тут мы оказываемся в довольно опасной ситуации. Во-первых, как только начинаешь судить тексты с точки зрения «художественности» (а уж тем более давать замаскированные под эстетические оценки этического свойства — или наоборот, в данном случае неважно) — жди беды. Первая беда придет со стороны историзма: все мы знаем, что эстетические и этические воззрения жестко определены конкретным историческим периодом. То, что нам кажется милым, красивым, прости господи, хорошим, — все это лет четыреста назад таковым не считалось, а то и вовсе воспринималось наоборот. Шаляпин с Волгой хорош, конечно, но для кого? Для нас с тобой, кто вырос на Волге в определенный период времени, кто знает, кто такой Шаляпин (причем Шаляпин, понятый в позднесоветском контексте, не раньше и не позже), для нас, кто знает/помнит всю прелесть неторопливой, растянутой волжской речи. Остальным это по фигу. Или даже отвратительно. И я их всех тоже понимаю. Ругается Бренер, кстати, очень старомодно, Воробьев тоже — точно так же, как сплетничали и поминали своих товарищей по малеванию во времена Вазари и позже. А уж про писателей я и не говорю. Уверен, что у композиторов дела обстоят не лучше. Во-вторых, понятие «талантливости» в отношении текстов лишено, как мне кажется, всякого смысла сейчас. Под «талантливостью» понимают сегодня либо ловкость письма, либо благие намерения, либо, наоборот, намерения, принципиально и цинично неблагие. Лично для меня Маринетти как раз неталантлив, просто туп — вот и все. А талантлив как литератор, скажем, Пикабиа, сочинивший отличную книгу «Караван-сарай». Но это ведь ничего не значит, кроме как для меня; наверняка есть люди, сходящие с ума по талантливому Маринетти и на дух не выносящие буковок Пикабиа.
Это я все к тому, что книгу Павленского называть хорошей/плохой, талантливой/бездарной не имеет смысла — мне вот так кажется.
Но еще более интересно вот что. В этом списке есть сочинения, которые как бы ускользают от разговоров, подобных тем, что мы с тобой здесь ведем, вообще как бы парят в непонятном пространстве, которого наши речи не достигают. Нет, не в том смысле, что они возвышенные, отнюдь: они другие. В нашем списке это «Пустотный канон» — тексты, будто сделанные по рецептам молодого БГ: «простые слова и странные связи — какой безотказный метод».
Как только начинаешь судить тексты с точки зрения «художественности» — жди беды, и первая беда придет со стороны историзма.
Наконец, главное. Скажи: а как вообще их все оценивать в качестве корпуса текстов? С какой точки зрения? Из какого угла? Ну не «лучшую» же «книгу художника за последние 10 лет» мы собираемся изыскивать. И не «самую интересную». И не «самую художественную» (во всех значениях художественного: от «визуально-художественного», от арта — до «художественности» советских литературоведов). Что тогда?
P.S. Я между делом уже несколько лет почитываю огромный том разговоров Франсуа Жонке с Гилбертом и Джорджем [1]. Вот эту книгу я считаю великой — причем, думаю, я один в мире, кто так считает. Дело не в том, что я обожаю G&G — хотя, конечно, обожаю как персонажей (к тому же целых пять своих лондонских лет я почти ежепятнично наблюдал пару безукоризненно одетых старичков, направлявшихся с остановки 67 Kingsland High Street в турецкий ресторан Mangal): просто для меня эта книга есть один из лучших источников по истории (культурной, политической, социальной) Британии последних 50 лет. И заметь: не было такой интенции ни у G&G, ни у Жонке. Так вышло. Вообще все самое лучшее в искусстве и словесности возникает в качестве «побочного эффекта», ненамеренно или почти ненамеренно. Я бы посмотрел на книги нашего списка еще и с этой стороны…
P.P.S. И еще, и еще раз: меня удивила потрясающая старомодность всех этих наших книг «современных художников». По сути, все они будто написаны до Энди Уорхола… Да что там Уорхола — до дадаистов и сюрреалистов.
Стрелков: Да, Кирилл, насчет побочного эффекта — согласен совершенно. Для меня примерно такая же (как для тебя G&G) фигура — Ильязд, Илья Зданевич. Как он сам пишет, «бедная личность <…>, ничем не заслуживающая внимания, кроме своей нелепости, несообразности, по своей вздорности немного превосходящих наилучшие цветения русской интеллигентности». Это начало романа «Философия» — а дальше разворачивается в чем-то фантастическая, а в чем-то удивительно реалистичная (в деталях, в мыслях, в репликах) картина наводненного русскими эмигрантами Стамбула — богатый источник впечатлений от истории русской, турецкой…
Если говорить о книгах нашего списка, то попытку «окунуть в атмосферу» предпринимает Андрей Хлобыстин, описывая петербургский художественный андеграунд 1990-х — 2000-х. Это пограничный по жанру текст: где-то искусствоведческий трактат, где-то справочник, где-то просто свидетельство участника (пристрастное, конечно). Рыхлость и многословие книги как-то удачно соответствуют ее предмету, тоже порой весьма невнятному, аморфному... Но при этом витальному, яркому, пусть не блестящему, но «поблескивающему».
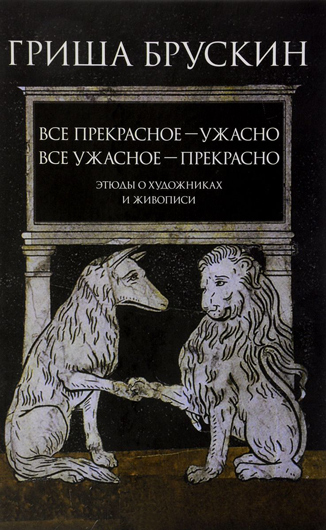 © НЛО, 2016
© НЛО, 2016Похожую попытку описать свой круг художников предпринимает Гриша Брускин, но у него посуше: скорее, не очерки соратника и современника, а каталожные предисловия. Эрик Булатов задачу ставит еще более четкую: просто рассказать, как он рос-рос («…рисовал я, по-моему, всю жизнь, во всяком случае, сколько себя помню…») и вырос — как художник. Кроме автобиографии — рассуждения о пространстве и поверхности, Малевиче и Фаворском, свободе и массмедиа. И еще — блок интервью и подборка писем.
Где-то рядом с булатовской по задачам — книга Леонида Тишкова. Тоже творческая автобиография с теоретическими и лирическими отступлениями. Но более доверительная, интимная по тону — и при этом немного в духе дидактических брошюр «о личностном росте».
Особняком, конечно, стоит двухтомный «Пустотный канон» Инспекции «Медицинская герменевтика» — обстоятельные и неторопливые беседы трех друзей-соавторов на самые разные темы. В том числе, разумеется, околохудожественные и околомедицинские: «Есть разные способы облегчения, разные способы достижения комфорта. Они разделяются на естественные (холодный душ, хождение на лыжах), потом уже менее естественные (это таблетки), потом идут наркотики, алкоголь».
Что же касается критерия нашей оценки, Кирилл, то да, непросто. Согласен, нельзя так формулировать: «лучшая книга». Может быть (по крайней мере, как внутренний критерий), использовать слово «адекватность»? Адекватность тому формату/жанру, который избрал художник. И адекватность его текста ему самому (как художнику). Может, как-то так?
Кобрин: Честно говоря, «адекватность» я бы понимал как своего рода номаду, как самодостаточную способность соответствовать (вот отличная русская замена переюзанному термину «адекватность», мне кажется) себе, своему искусству, современности, социуму. Заметь, все слова и словосочетания начинаются на «с» — ту самую «с», что есть в названии премии, одним из направлений которой мы занимаемся — ты как председатель волжского жюри, я как куратор проекта. Но в данном случае из наших множественных «с» я бы выбрал «современность»: соответствие конкретного текста из нашего списка современному способу художественного мышления и современному обществу разом. Такая вот спец-«Волга/НОС» — «Современная книга современного художника» получается. Ну, посмотрим, что выйдет (или не выйдет), в финале — 23 мая.
[1] Gilbert and George. Intimate Conversations with François Jonquet. — London: Phaidon, 2004.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал? Помоги сайту!
 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизия
 Радиотелескоп для работы с Непредставимым
Радиотелескоп для работы с Непредставимым Художники против Екатеринбургского цирка
Художники против Екатеринбургского цирка Танцхудожники за справедливую оплату труда. Открытое письмо
Танцхудожники за справедливую оплату труда. Открытое письмо Как сделать лесную выставку в поле
Как сделать лесную выставку в поле Минус-прием Игоря Чацкина
Минус-прием Игоря Чацкина Русская как иностранная
Русская как иностранная В Томске потребовали закрыть «арс котельную»
В Томске потребовали закрыть «арс котельную» Позвольте, что это за «яба» такая?
Позвольте, что это за «яба» такая? Вторая триеннале музея «Гараж». Послесловие
Вторая триеннале музея «Гараж». Послесловие Музей Stedelijk против генпрокурора
Музей Stedelijk против генпрокурора «В советское время сюда попадали люди, которым не нашлось места в системе»
«В советское время сюда попадали люди, которым не нашлось места в системе» Открытое письмо международного арт-сообщества против ареста Надежды Саяпиной
Открытое письмо международного арт-сообщества против ареста Надежды Саяпиной