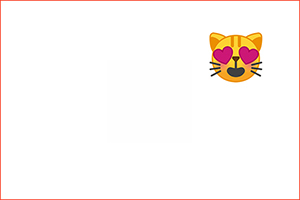1. Знание
Большое спасибо за возможность высказаться, построить свою речь вокруг таких важных и острых тем. Я связан с институтом искусства. Но сама характеристика этого института парадоксальна. Что значит быть связанным с институтом искусства? Если мы проанализируем возникновение института искусства в конце XVIII — начале XIX века, мы уже заметим все эти парадоксы. В особенности если мы сравним институт искусства с университетом и возникновением научных лабораторий.
В эпоху Великой французской революции стало очевидно, что идеалы Просвещения, которые представляли инструменты для переустройства общества, столкнулись с непредвиденными эффектами — например, с радикальным насилием. Стало очевидно, что наука и технический прогресс обладают эффектами, которые мы не можем однозначно прогнозировать. Искусство фиксировало политические, социальные эффекты, схватывая знание «с другой стороны», со стороны влияния этого знания на повседневность. То есть именно в эпоху романтизма Просвещение было понято диалектически, оно связалось с процессами, которые не могут быть сознательно и рационально учтены сразу. Это называют диспозициональностью. Есть что-то, что влияет на нашу повседневность, что мы не осознаем как акт или жест, но тем не менее это и не является чем-то бессознательным в духе Фрейда. Это похоже на ходьбу. Ходьба — это сложный, опосредованный и во многом очень многосоставный механизм, но он вшит в повседневность, и вы не задумываетесь сознательно о каждом вашем движении. Оказалось, что у знания есть эта сторона. Знание влияет на повседневность и встраивается в нее на диспозициональном уровне. Такое знание становится тем, что мы не воспринимаем как знание, но оно имеет свои эффекты.
Когда я это говорю, у меня в голове несколько мрачных, но важных примеров. Первый связан с Вирильо. Он говорил: когда вы придумываете автомобиль, вы придумываете автокатастрофу. Автокатастрофа, в свою очередь, запускает целую культуру шока, ожидания, техники безопасности. Горизонт автокатастрофы меняет наше тело, даже наши этико-сексуальные отношения, как это было прекрасно показано Баллардом. Изобретатель автомобиля не придумывает все это сознательно, но в каком-то смысле в любое изобретение это заложено. Заложено то, что станет затем диспозициональным эффектом.
Другой мрачный пример прекрасно раскрыл Жорж Диди-Юберман. Это гильотина, у него есть эссе о гильотине. С одной стороны, гильотина — это достижение науки того времени, механизм стремительной и «гуманной» казни; с другой стороны, в изобретении гильотины были вшиты важнейшие символические моменты. Этот инструмент отсекает голову короля: знание без лишней боли избавляется от иерархии и власти прошлого. Теодор Жерико в своих фрагментах, в своих эскизах сталкивает нас с «эффектом» этого изобретения. Линда Нохлин замечательно отметила, что живопись этих частей тела у Жерико соединяет в себе «научный», «анатомический», «холодный» взгляд Микеланджело с новым ощущением романтической драмы, с более горячими аффектами. Что делали Жерико и Делакруа, как они использовали институт искусства? Они следили за тем, как знание становится неосознанным и диспозициональным и организует повседневность, как я это описал, «с другой стороны».
В этом было заложено отличие института искусства от университета и лаборатории. Образ, который производился романтиками, должен был связать знание с его социальными эффектами. Знание всегда влияет на практический опыт людей, народных масс. Художник и институт искусства создают «образ», который иначе соединяет знание и мир практики людей. То есть, когда мы говорим, что принадлежим к институту искусства, для меня это значит, что мы имеем дело с эффектами знания, которое вышло из осознанности, стало культурой в смысле обычаев. Это отличие, которое я показал, также приводит к тому, что музей как место искусства имеет особое отношение к знанию, а значит, и к университету. Имея особое отношение к знанию, для многих людей музей может становиться вариантом «другого» образования, другого Bildung. Для меня это очень важно. Я хочу сказать, что мы можем изучать искусство, говорить о науке об искусстве, каким бы провальным проектом это ни было. Но меня интересует другое. Меня интересует, как развивать и поддерживать отношение искусства к знанию. Не изучать или интерпретировать искусство, а говорить из этого места искусства, говорить из института искусства.
Это верно и для моей жизни. Я могу сказать, что я «образован» искусством. Я не образован университетом, не образован школой. Но также я не образован наукой об искусстве, то есть университетским изучением искусства. Поэтому так сложно определить мое мерцающее положение. Я работал и в университетах, и в школах, я участвовал в развлекательных передачах, и кажется, будто я представляю идеального субъекта неолиберализма, который следует за императивом Брюса Ли «будь как вода». Но я, конечно, не вода. Легитимность и символическое измерение не исчезают, не растворяются: они существуют, но проходят по другим границам, нежели существующие институциональные перипетии в России.
Да, институт искусства как особое отношение к знанию не совпадает с институциями и существующей бюрократией. Все пытаются пришить искусство либо к университету, либо к развлекательному комплексу. Действительно, искусство вбирает в себя и историю университетского деления, и инфраструктуру, близкую к кино с его фестивалями и вплетением в развлечение, — и это все одновременно. Но это лишь указывает на существование базового противоречия, на котором искусство сфокусировано, — это противоречие между рациональным знанием и практической жизнью людей. Их неосознанная взаимоэффектность. Простите, что я так много сказал, но приходится это делать, потому что мы фактически говорим о том, что существует в очень странном, отсутствующем и контурном виде.
2. Бегство
Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Но я хочу поделиться удивлением здесь. Это удивление касается того, что я вообще не мыслю движение через бегство, захват или номадизм. Может, я вообще не мыслю движение как передвижение. Я стараюсь настаивать на разговоре из определенной позиции — и, проясняя себя шаг за шагом, я получаю более точную артикуляцию. Это означает, что я как делал то, что я делал в 15 лет, так и делаю. Я никуда не двигаюсь. Проблема лишь в том, что сложно определить то, что я делаю и зачем. Это загадкой остается и для меня. Но, как я уже сказал выше, можно определить это как своего рода настаивание на позиции искусства.
3. Лаборатория
Я уже сказал о парадоксе знания и о том, какую роль играет искусство в усматривании его эффектов. То же самое делает научная фантастика, которая является гомологическим полем к полю искусства. Сегодня мы видим ярче эту гомологию в работах Лоренса Лека, Бахар Нуризаде и других, в чьих практиках ставится вопрос, вполне в духе аналитической философии, о сопоставлении терминов «современное искусство» и «научная фантастика». Для меня, как и для Бурдьё, поле искусства и поле литературы работают с похожими задачами. Я хочу развить эти мысли и представить все это как особый тип письма и особый тип практики. Это мне подсказало чтение Дарко Сувина: я считаю, что его взгляд на литературу революционен именно потому, что областью его интересов является научная фантастика. С этим я хочу работать.

 Кочевники-сновидцы Евгении Дудниковой
Кочевники-сновидцы Евгении Дудниковой Взгляд из космоса на советское искусство
Взгляд из космоса на советское искусство Едва заметный пакет телеологии
Едва заметный пакет телеологии Текст о том, как барокко шевелится под тканью мира
Текст о том, как барокко шевелится под тканью мира Мыльный колосс, гендерная клетка и ностальгия
Мыльный колосс, гендерная клетка и ностальгия Цех приема и первичной обработки концептуализма
Цех приема и первичной обработки концептуализма «Программирование — это материал, где слова превращаются в форму»
«Программирование — это материал, где слова превращаются в форму» Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание
Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание «Настало время транскодирования образов окружающего мира»
«Настало время транскодирования образов окружающего мира» Арсеньев, Клюшников, Суслова, Куртов, Горяинов о побеге из институций, поиске знания и образовании
Арсеньев, Клюшников, Суслова, Куртов, Горяинов о побеге из институций, поиске знания и образовании Сон в плохом 3D и каркас небесной сферы
Сон в плохом 3D и каркас небесной сферы Есть ли живопись после Чаушеску
Есть ли живопись после Чаушеску