 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?
Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202329058 © Яна Инсмут
© Яна ИнсмутНовый цикл на COLTA.RU: журналистка и режиссерка Инна Денисова, когда-то взявшая для нас интервью с Земфирой, беседует «по душам» с новыми героинями российской поп-музыки, пришедшими Земфире на смену.
Беседа первая: Айгель Гайсина из дуэта «АИГЕЛ» рассказывает Инне Денисовой о детстве в Набережных Челнах, одиночестве, поэзии и рэпе как противоположностях, мусульманстве как данности, песне «Татарин» как визитной карточке группы и деструктивности как свойстве личности.
— Где ты сейчас?
— В Набережных Челнах.
— Расскажи, что за город.
— Набережные Челны — моногород, образовавшийся вокруг завода «КамАЗ». Здесь нет достопримечательностей. Когда просят «показать город», показывать нечего. Зато много пустырей. Я недавно писала в Инстаграме, что нет ни одного поля, достаточно широкого для меня, мои глаза хотят смотреть на пустоту. Так вот, Челны достаточно широки для меня.
У тех, кто родился в таких городах, немного измененное восприятие красоты. Начинаешь с подозрением относиться к архитектуре вроде казанской — с барельефчиками, кудряшками, купеческими домами. Кажется, что в них нет правды. Суровая правда — это наши панельки.
Здесь прошло мое детство, я все здесь люблю: ободранные дома, недостроенные теплицы, неухоженные пустыри. У меня есть даже песня про детство в Челнах, «Оно выделяло тепло» называется.
— Тревожная песня. Каким было твое детство?
— На первый взгляд, счастливым: папа, мама, сестренка, музыкалка. Была пятерочницей, не шаталась по подъездам. Но, когда начинаешь копаться, уже будучи взрослой, понимаешь, что вообще было грустновато. У нас обычная семья: мама — бухгалтер, папа — милиционер. Таланты в роду были, но сразу зарывались. Папа в юности круто пел и играл на баяне татарские песни, дядя сочинял под гитару русские песни, творческих амбиций не было ни у кого, пытаться стать артистом было безумием, несовместимым с жизнью.
И у моего поколения тоже не было ощущения, что можно быть тем, кем родился. Например, я могла бы поступить в консерваторию, но — «кем ты будешь после консерватории?»
Среди детей я была чужеродным элементом. До сих пор осталось это чувство «как же я хочу быть “нормальным человеком”». Как-то, будучи уже взрослой, я прочитала крутую книжку про интровертов — про то, что общество ориентировано на экстравертов и учит ими быть. Не хочешь гулять с другими детьми — значит, ты хуже их. А то, что половина людей в мире интровертна по природе, никому не интересно, их отправляют на курсы экстравертов — ораторского мастерства или лидерства. Ну а если ты интроверт и при этом еще и сфера интересов у тебя странная и редкая — ты обречен на одиночество.
До сих пор осталось это чувство «как же я хочу быть “нормальным человеком”».
— Поэтому ты уехала в Казань?
— Поехала поступать в вуз. Вопросы «кто ты» и «кем ты хочешь быть» не стояли. Надо было становиться юристом или экономистом, потому что «они везде нужны». Я поступила в Казанский государственный университет на факультет международных отношений, отделение политологии. Не потому, что любила политику: просто туда нужно было сдавать обществознание вместо истории, а историю я бы не сдала. Учиться, правда, было интересно, мы читали те же книги, что читают на философском факультете.
На первом курсе нашла поэтический кружок, среду. Было чувство как у гадкого утенка, который обнаружил сородичей.
Там я познакомилась с Лизиным папой. Мы прожили вместе шесть лет, было классно, мы друг друга очень любили. После развода я вернулась в Челны.
Через какое-то время собрала здесь группу «Так красиво темно», нашла свою вторую многолетнюю любовь; сейчас эти отношения, к сожалению, закончились, группы тоже больше нет, меня ничто здесь не держит, поэтому очень надеюсь, что в третий класс мой ребенок пойдет уже в Москве.
— Как тебе Москва?
— Я не фанатка больших городов. 12 лет назад я жила в Москве около года; никогда в жизни не видела столько сумасшедших, сколько в московском метро. К Москве тогда я так и не привыкла. Если ты суперэнергичный, тебе там норм. А если размазня, как я, — это тяжеловато.
Но сейчас мне нужно ехать, вся моя творческая жизнь там, и хочется перестать мотаться уже.
 © Яна Инсмут
© Яна Инсмут— Ты поэт?
— Не считаю себя поэтом. Поэта комфортно читать на бумаге, а у меня многое без интонации не поймешь, нужен ритм. Я должна сама читать свои тексты так, как я их придумала. Я — автор песен, или поэт-песенник; в нашей традиции это, наверное, называется «бард», но это слово окружено атрибутами, которых у меня нет. Поэтому пусть будет «автор-исполнитель».
— Когда ты начала им быть?
— Как только научилась читать и писать. Лет с десяти пошли стихи на вечные темы. Их было совершенно некому читать. Друзей у меня тогда не было.
А лет в 20 я ходила к астрологу, она сказала, что мне можно писать только в стол. И друг мой в университете говорил: «Нельзя проявляться». Я к тому времени заблудилась в философских книжках и не могла для себя решить, проявляться или нет.
Выступать я начала сначала под гитару, но играть на таком уровне было стыдно. Либо учиться нормально — мне было лень, — либо вообще не играть.
Тогда я установила первый музыкальный редактор. Читать мануалы было тоже лень, поэтому я делала треки интуитивно и через жопу.
С поэтки взятки гладки.
С этим тоже выступала какое-то время и даже имела слушателей. Мне, на самом деле, до сих пор кажется, что это классная музыка, но все маститые ценители музыки, в том числе Илья (Барамия — партнер Айгель в дуэте «АИГЕЛ», петербургский музыкант, звукорежиссер и продюсер, один из создателей проектов «Елочные игрушки», 2HCompany, «Самое большое простое число». — Ред.), считают, что это слушать невозможно. Я как человек, выросший на сибирском панке и никогда не имевший дома нормальных колонок, не знаю, где грань между «слушать возможно» и «слушать невозможно». Сама я до сих пор люблю дикую домашнюю дичь.
В лирике у меня заточка на проблему: не могу писать, когда весело. Соответственно, тексты получаются тяжелыми. Я всегда переживала, что могу испортить всем настроение, поэтому отказывалась от квартирников и концертов, выступала очень редко. Когда Лиза появилась, я стала еще старательнее, чем раньше, вести нормальную человеческую жизнь, работать. Это было легко, потому что «работать артистом» казалось чем-то из области «полететь на Луну». На самом деле, наверное, так и было, «полностью посвятить себя музыке» для андеграундного артиста стало возможно только в последние несколько лет.
— Быков читал твое стихотворение на «Эхе Москвы» в 2016 году, еще до «АИГЕЛа». Я там зацепилась за слово «поэтка».
— Я употребляю «поэтка» в этом стишке потому, что «поэтесса» длинно, а «поэт» — слишком претенциозно. С поэтки взятки гладки.
Я не сторонница фемской языковой традиции. Не потому, что против, а потому, что не привыкла. Как тебя научили, так ты и говоришь. Когда меня называют поэтом, я не испытываю дискомфорта. Мне не кажется, что это настолько важная проблема, чтобы на ней циклиться.
С другой стороны, идея, что от языка идет смена парадигмы отношения к женщине, — хорошая. Пока мне многие феминитивы на «-ка» на слух кажутся уничижительными. «Редакторка» звучит как-то неуважительно и панибратски, а как лучше сказать — я не знаю: «редакторесса»? Я совершенно точно знаю, что, если девочки это отстоят и внедрят, лет через 20 «редакторка» будет так же естественно звучать, как «артистка». Насколько это будет продуктивно с точки зрения целей феминизма — не знаю, наверное, что-то в этом есть.
Феминистки спросили, тяжело ли мне в музыкальной индустрии, где гнобят женщин. Я ответила, что меня не гнобят вроде.
— Цветаева была против «поэтессы».
— Цветаева боролась за то же самое, за что борются феминистки, но прямо противоположным способом. Она считала, что указание на гендер унизительно, а слово «поэтесса» жеманно, а в общем, наверное, тоже всего лишь хотела уважения и равного отношения.
— Ты не борешься?
— Однажды у меня брали интервью феминистки, ориентированные на борьбу. Они спросили, тяжело ли мне в музыкальной индустрии, где гнобят женщин. Я ответила, что меня не гнобят вроде. Потом уже задумалась, что как минимум в звукорежиссуре женщин гнобят. У меня у самой есть стереотип, что это «мужская профессия» и что мужские уши лучше слышат. Хотя физиологических подтверждений этому нет. И вообще наш любимый питерский звукач на концертах — девушка Лера. Мы работали еще с парой «звукорежиссерок», их действительно мало, но именно с ними были наиболее тонко выстроенные и четкие концерты: это не только мое мнение, но и Ильи тоже. А в остальном не могу назвать момент, повредивший мне в профессии или дискриминационный. Наверное, нужно бороться еще и с отношением женщин к себе, с тем, что им кажется, что они чего-то не смогут и что даже соваться нет смысла. Если это интересно — смысл есть, все всё могут.
— Хип-хопом ты стала заниматься, встретив Илью?
— Мне кажется, это не хип-хоп. Когда мы познакомились с Ильей, он сказал: давай, рэпчик будешь читать? Я прислала ему свои стихи и говорю: вот тебе рэпчик. У меня и правда много текстов, по просодии близких к рэпу. Он говорит: нет, не то. И я поняла, что вообще-то да — не то.
Поэты с пренебрежением относятся к рэперам. Считают, что уж если они захотят рэп написать, то сделают это легко. А это совсем не легко. Рэп ритмически намного более сложный жанр, основан на флоу, если ты на рэпе не вырос, фиг ты так напишешь.
Мне кажется, это не хип-хоп.
Поэт — полная противоположность рэперу с точки зрения подхода к тексту. У поэтов куча ограничений изначально в голове на этапе чистого листа, начиная со стихотворного размера и количества стоп, которые рука не поднимается без веской причины ломать и менять, и заканчивая неспособностью бесконечно длить строку и лить воду. В рэпе же, наоборот, все должно течь, это похоже на речь и по количеству лишних слов. И четкое соблюдение стихотворных размеров, и равное количество стоп убивают песню.
Я слушала рэпы от поэтов — это очень плохие рэпы. И у меня не рэп, а, скорее, акынство какое-то.
— Музыкально Илья под тебя подстроился?
— Нет, мне кажется, у нас диффузия и баланс. Музыка в нашей группе очень важна, без нее многое было бы не донесено.
В моих предыдущих проектах, в «Так красиво темно», была более мелодичная музыка, а Илья придумал делать кардинально по-другому, жестко и минималистично. Но мы меняемся, становится интересно делать с музыкальной точки зрения насыщеннее и сложнее. Минуса, в которых я участвую, звучат поласковее, и в них больше дорожек, потому что я люблю всего много. А некоторые треки Ильи побуждают меня писать нехарактерные для меня тексты или вообще отказываться от стихов и мелодий, чтобы ими не перегружать и не оттягивать внимание на себя. Мы подстраиваемся друг под друга.
 © Татьяна Дзельскалей
© Татьяна Дзельскалей— Как ты работаешь над вокалом?
— Я очень недисциплинированный человек. Была дисциплинированной в детстве, а сейчас полная раздолбайка в том, что могло бы меня улучшить. И мне немножко обидно, что я никогда не услышу, как я могу звучать, потому что мне лень тренировать вокал системно. Когда надо идти писать голос в студию, которая в метре от меня у меня же дома, первая эмоция — страх, что ничего не получится.
Всегда пишу по пятьдесят дорожек вокала и потом не могу выбрать. Мне кажется, когда я попаду в ад, передо мной поставят комп с музыкальным редактором, где будет бесконечное число дублей и нужно будет из них выбирать один.
Когда я смотрю на людей, особенно на тех, которые делают мне больно, я вижу их одновременно младенцами, первоклашками, подростками и не могу злиться на них.
— Ты перфекционист?
— Ужасный — в музыке и в тексте. Во всем остальном — вообще нет.
— Первый альбом «АИГЕЛа» очень театральный, как рок-опера, спетый на разные голоса.
— Тогда вокруг меня было много людей, у каждого был свой голос. Вот судья сидит, старый. Только что посадил человека, которого я люблю. Я ставлю себя на его место и думаю, что и у него тоже есть какой-то свой внутренний ад. Вот женщина, которая не пускает меня на свидание, у нее выжженные перекисью волосы. У каждого из них есть душа, никто не рождается злым, а чтобы быть добрым, нужно быть сильным — не все сильные. Когда я смотрю на людей, особенно на тех, которые делают мне больно, я вижу их одновременно младенцами, первоклашками, подростками и не могу злиться на них, могу только бесконечно пытаться понимать.
— Получилась дантевская фреска.
— На самом деле концептуальным он стал нечаянно. В альбоме «Эдем» тоже есть элементы концептуальности, хотя не было стремления сделать историю с главами.
— В чем концепция?
— Ну, он начинается с того, что человек падает и таким образом рождается. Летит, не хочет, ему страшно, но он попадает на эту землю. Потом адаптируется и уже вроде как рожден как человек. Этот альбом — мое представление о том, как человек появляется и как он функционирует в мире.
— У тебя мистическое сознание?
— Да, абсолютно.
— Ты мусульманка?
— У меня стандартная татарская светская мусульманская семья. Религия присутствует, но не так, чтобы заполнять собой все.
В мечеть особо никто не ходит, но дома читают молитвы. У бабушки была мечта, чтобы я выучила длинную суру из Корана под названием «Тэбэрэк» и прочитала ее в деревне на Сабантуе; я так и не доучила. Мусульманские молитвы все на арабском, мы в детстве их заучивали как абракадабру, мне кажется, так даже круче работает, чем когда понимаешь текст: я до сих пор, когда их повторяю, чувствую, что я в домике, сейчас Аллах меня спасет. Мама и сестра в этом году держали уразу. Я не держала, не могла собраться с мыслями, настрой нужен.
Моя главная проблема во взаимоотношениях с исламом — там женщинам нельзя петь при посторонних. Что с этим делать — я не знаю. Я даже в инстаграмчике спросила: а что с этим делать? Мне на это ответили: «Все люди — братья». По-моему, гениальный выход из положения.
— Зачем тебе религия в поэтической и артистической жизни?
— Моя религия — это мои корни, письмо мне от моих предков. Я творчески взаимодействую с религией и с теми трактовками, с которыми я не согласна. У меня есть мой Аллах, в которого я верю. Он очень своеобразный. Как-то один мусульманин обиделся на строчку из моей песни «и женихом моим взрывоопасным, и Аллахом моим своеобразным». Написал мне: «Зачем Аллаха нашего оскорбляешь?» Я спрашиваю: «Разве “своеобразный” — это оскорбление? “Своеобразный” — это же значит “особенный”». Он сказал: «Больше так не говори».
Моя главная проблема во взаимоотношениях с исламом — там женщинам нельзя петь при посторонних.
— Если спросят, татарка ты или россиянка, что ответишь?
— Если за границей спросят, скажу, что я из России. Но вообще уточняю, что я татарка. Просто если за границей сказать, что ты из Татарстана, они сразу начнут: «а, Дагестан, Чечня, война».
Я ощущаю себя частью своей культуры, своего малого народа и своего большого народа. Кстати, как человек, выросший в Татарстане и не видевший особых противоречий в том, чтобы быть и русской, и татаркой одновременно, совсем недавно узнала, что за пределами нашей республики все же есть некая ползучая дискриминация на национальной почве. Когда песня «Татарин» прозвучала в «Урганте», девчонки-татарки стали писать мне «спасибо», а друзья — кидать ссылки на посты о том, как кто-то плакал, слыша песню на родном языке в Москве и других нетатарских городах. Многие писали, что они и их родители всю жизнь скрывали свое татарское происхождение и тут вдруг в последние годы оказалось, что татарином быть прикольно и даже модно, а они думали — это стыдно. Меня это сильно удивило и взволновало: оказывается, мне очень повезло с тем, чтобы расти в родном краю, я силу родной земли всегда воспринимала как данность, а это дар и минус один детский комплекс в будущем.
— Песня «Татарин» — ироничная и совсем нетипичная для проекта — в итоге стала вашей визиткой.
Я, кстати, вздрогнула. Подумала: вдруг это все всерьез — лирическая героиня ждет из тюрьмы парня и боится, что он придет и убьет ее.
— Да, если вдуматься, это страшная песня. А то, что она стала визиткой, — вообще мне нравится казаться немного не тем, кто я есть. «Татарин», с одной стороны, на карантине по стримингу продолжает нас кормить. С другой, у многих сформировалось обманчивое впечатление о группе, особенно у тех, кто прикола не понял. «Татарина» посмотрели пятьдесят миллионов человек, но это не значит, что нас знают пятьдесят миллионов человек. Это не самое комфортное чувство, когда ты встречаешь человека и не знаешь о нем ничего, а он о тебе знает многое, потому что ты артист. Ты в уязвимом положении. Мне нравится, что несмотря на то, сколько людей услышало «Татарина», мы не стадионная группа. Что можем для кого-то стать тем тайным сокровищем, которым для меня были в свое время мои любимые группы.
— Я не стремлюсь потреблять информацию, много чего проходит мимо меня. Придумываю свое легко, а чужое часто в меня просто не лезет. Читать еще что-то могу. А вот чтобы фильм посмотреть, меня надо за ручку держать первые пятнадцать минут, чтобы я не сбежала, потому что для меня очень мучителен момент погружения в чужую воду. Когда ты уже внутри чужой иллюзии — все классно, но, чтобы оказаться там, нужно выйти сначала из своей, это всегда маленькая травма.
Ни литература, ни искусство, ни кино меня напрямую не вдохновляют. Я ничего никогда не написала под воздействием чьего-то творчества. Но, думаю, я меняюсь под воздействием чужого творчества, и незаметно для меня может меняться моя оптика.
— А в юности кого слушала?
— Ну, сейчас будут маркеры: Летов, Янка Дягилева, сибирский панк, рок-музыка. Вообще Челны — город говнарей. Все моногорода — это города металлистов: не знаю почему, но это так. Я в подростковом возрасте тусовалась с металлистами, слушала метал и даже играла в блэк-металлической группе.
В университете стала слушать электронику — Kraftwerk, Front 242, Aphex Twin и все такое. Очень много слушала редкого и странного — у меня были друзья-меломаны. Сегодня почти все новое в музыке я узнаю от Ильи.
Мы можем для кого-то стать тем тайным сокровищем, которым для меня были в свое время мои любимые группы.
— Кто, например, тебе нравится?
— Текстоцентричные группы я не слушаю, потому что они мне не нужны. Я очень радуюсь и горжусь тем, что их все больше, но в плеере у меня, скорее, будет техно какое-то без слов. Музыку, которая давит, я могу слушать один раз — как книжку читать. Больше я к ней не возвращаюсь. Я удивляюсь, что нас могут слушать на репите: мне кажется, это нелегко. Когда я в первый раз услышала Хаски, я всем срочно рассказала, что у нас появился супертекст в музыке. Но, поняв примерно структуру чужого поэтического мира, я в нем больше не нуждаюсь. Наверное, это профдеформация. «Дайте танк (!)» очень крутые, недавно я послушала лайв из двух городов группы «Мы». Мне очень нравится, как у них сочетаются голоса, и нравится их музыка. Сюзанна и «Мальбэк»: офигенная сумасшедшая Сюзанна, вообще не из этого мира. У нее все по-своему, все неправильно, и при этом она умудряется оставаться в поп-пространстве.
Mnogoznaal вчера слушала, это рэпер из Коми, у него очень классная языческая энергия. Рэперы пишут так, что хрен их поймешь, — но они как-то друг друга понимают, и их понимают их слушатели: это забавно, и забавно, что те, кто понимает рэперов, обычно вообще не понимают поэтов, несмотря на то что у поэтов обычно и подлежащее, и сказуемое есть и в принципе мысли довольно четко сформулированы. Но мне нравится этот шизофренический способ письма рэперов: мне кажется, это похоже на автоматические рисунки, на золотую руду в какой-нибудь шахте — в них всегда можно искать свой собственный клад.
Еще есть такая певица Masha Hima; мне кто-то говорил, что мы похожи, но я раньше не слышала, а недавно наткнулась и послушала ее альбом «Blackwork» — он про абьюзивный брак и последующий болезненный развод. Суперженский альбом — при этом очень грязный, порнографический, матный. Суперталантливый вокал — у нее очень многогранный, пластичный голос. Маша высказалась очень по-женски, но как настоящий мужик, получила в ответ много предсказуемой тупой мизогинии, но мне кажется, что это важный и правдивый альбом, особенно для переживших подобное.
— Я часто разрушала то, что имею. Момент, когда что-то рождается, — это момент, когда оно начинает умирать. Однажды я спросила своего друга: «Почему я все рушу?» Он мне ответил: «Потому что все не то». Может быть, и правда в этом все дело. В нашей группе Илья это хорошо компенсирует. На нем все держится. Глядя на него, я учусь контролировать свое «ой, все». В его лице я нашла первого человека, который готов вкидывать в дело своей жизни столько же, сколько готова вкидывать я. Если ты 500 раз предлагаешь что-то переделать и человек не посылает тебя матом, а сидит и вместе с тобой переделывает, ты не будешь хлопать дверями. То есть, кажется, я поняла, что мне для полноценного диалога и для того, чтобы я не сбежала, нужны такие же одержимые, как я.
Моя подружка, поэтесса Анна Русс, как-то сказала, что люди делятся на творцов и венцов. Творцы — те, которым на себя пофиг, главное — продукт, результат. А венец много вкладывает в себя: саморазвитие, тренинги, английский, китайский, ему нравится становиться лучше.
Я — классический творец. У меня фокус всегда смещен с себя на то, что я делаю. Текст, песня — это для меня первично, а как я выгляжу и как я себя чувствую — дело пятнадцатое.
Такого «нет, я туда не полезу, а то как бы чего не вышло» у меня нет. Инстинкта самосохранения нет. Хотя последнюю треть жизни у меня поправка на то, что я мама и себе не принадлежу. Не имею права быть нездоровой, неэнергичной и неадекватной.
— Какой период сейчас?
— Странный период. С человеком, которому посвящена половина песен «АИГЕЛа», мы расстались. Уже год прошел, а я до сих пор это перевариваю. Писать об этом не хочется, какая-то немота. Я функционирую как музыкант, у нас много давно придуманного материала, с которым мы разбираемся, я записываю, монтирую дорожки целыми днями. Не знаю, что будет дальше.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202329058 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202257883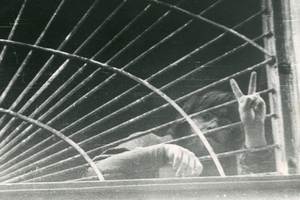 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202274456 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202241544 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 2022102784 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202260958 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202242154