 Современная музыка
Современная музыка«Увула»: «Мы заслужили свое место среди знаковых гитарных групп»
Лидер группы Алексей Августовский — о новом альбоме «Устойчивая непогода» и о том, как написать хорошую песню
8 октября 2021264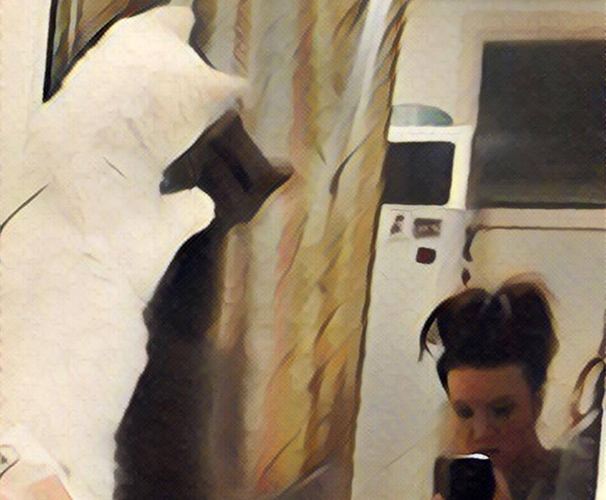
«…one false step is ne'er retrieved…»
T. Gray. «Ode on the Death of a Favourite Cat»
Пáнгур, белый Пáнгур, как счастливы мы с тобой
Одни, вдвоем, монах и кот.
У каждого из нас на каждый день своя работа:
Моя — наука, твоя — охота.
Твой взгляд горящий скользит по стенам,
Мой тусклый взгляд застыл на книге.
Ты рад, когда когтями схватишь мышь,
Я рад, когда мой разум мысль поймает.
Доволен каждый своим искусством, и ни один другому не мешает.
Так и живем. Одни, вдвоем. Без зависти, без скуки.
У.Х. Оден. «Пангур Бан»
Как-то в мае, когда, казалось, всю Россию охватил ужас из-за публикаций о самоубийствах подростков, я сидела на диванчике в кабинете своего психотерапевта, и врач вдруг сказала — прервав мой скорбный рассказ о том, как тяжело живется молодой, симпатичной, здоровой девушке:
— Знаете, я вот все думаю про эти самоубийства среди детей. Почему это происходит.
— А вы думаете, почему? — заинтересовалась я.
Такие моменты — когда врач внезапно заговаривала не о личном моем и ничтожном, а о глобальном и общечеловеческом — очень мне нравились.
— Я думаю, современный ребенок выключен из культуры смерти, — сказала она. — Взрослые не говорят с ним о смерти, не водят с собой на кладбище. В итоге у человека не складывается никакого представления о смерти. Ему кажется, что смерть — это прекращение сиюминутного страдания, а не конец всего. Он не понимает, что за смертью следуют гроб, земля, разложение.
— А если ребенок не хочет на кладбище?
— Что значит не хочет? Конечно, не хочет! Никто не хочет на кладбище! А ребенок… ну, ребенок хочет сидеть дома, возиться с гаджетами. Но есть семейный долг. И смерть — это то, что нужно в семье разделить. Родитель в ключевые моменты должен проявить настойчивость.
— У нас в семье детей никогда ничего делать не заставляли, — сказала я.
Врач посмотрела на меня так, словно раздумывала, произносить ли следующую фразу. Затем сказала:
— По вам и видно.
Разговор этот долго не шел потом из моей головы. Тем более что близился мой день рождения, а значит, и день гибели Герундия. Смерть эта, которую многие бы назвали (и, разумеется, назовут) ничтожной, вот уже два года тяжело лежит на моей совести. Я точно знаю, что виновата. И что оправданий мне нет.
Но слова врача заставили меня подумать о том, что, может быть, знай я о смерти чуть больше, представляй я хоть смутно, хоть самую малость, как страшен ее приход, я…
А впрочем, все было бы так же.
Мой бедный.
— Есть семейный долг. И смерть — это то, что нужно в семье разделить.
Семью нашу смерть не то чтобы миновала, но для детей являлась она незаметно. Даже животные умирали у нас очень тихо. К примеру, собака Альма — моя черная бородатая нянька, — напоследок нас всех обласкав, повалилась на обычное свое место в коридоре, всхрапнула и отбыла. Не сразу мы даже заметили окончательное ее отсутствие. Смерть ее меня не испугала, а скорее, вызвала недоумение. Я привыкла, что Альма всегда где-то рядом, сильная и спокойная, готовая подставить огромную свою спину для коротких верховых прогулок по комнатам. Привыкла, что утром она приходила ко мне, потрясая склизкой бородой в каше, и дергала за одеяло, а я кричала: «Овсяная борода! Овсяная борода!» — и отбивалась. Сколько пододеяльников мы так подрали… Но я не заботилась о ней, не гуляла с ней, не кормила. Для меня она была кем-то вроде помощника мамы и папы, преданным слугой дома, кем-то, кто любит меня беззаветно и кого я не обязана так уж любить в ответ.
Я помню, как мы с отцом ехали на грузовичке в Белкинский лес, и Альмино тело, завернутое в зеленое покрывало, безжизненно колыхалось в кузове позади. Я знала, что это уже не Альма, а просто тяжелая туша и что в туше этой нет уже Альминой доброты и любви ко мне. Я также знала, что должна плакать, но плакать мне не хотелось, и я боялась спросить отца, для чего больше нет Альмы и где же она теперь.
Я знала, что говорить о смерти со взрослыми очень опасно — они мямлят, все путают, бормочут что-то невнятное, а главное, вдруг могут сказать такое, от чего станет слишком страшно.
Меня напугали лет в шесть или семь.
Родители тогда в очередной раз сослали меня на лето в рязанский поселок — к зловещей бабушке Ане. Отношения у нас с ней не складывались. Во-первых, под крышей ее дома я впервые столкнулась с запрещенной литературой. Трижды я похищала из серванта книгу «100 великих любовников» и трижды была отлуплена за это подручными средствами — прыгалками и бадминтонной ракеткой. Во-вторых, бабушка не позволяла скакать на кроватях. Деревенские кровати — в особенности пышные пуховые подушки, накрытые тюлем, — влекли меня с необъяснимой силой. Но стоило только мне потревожить величавый покой пуховых подушек, как тут же являлась бабушка, а вместе с ней и какое-нибудь из ее карающих орудий.
Имея в виду эти два моих пагубных пристрастия, бабушка, в отличие от родителей, никогда не оставляла меня дома одну. Возможно, поэтому, а может быть, и потому, что принадлежала к тому поколению, для которого смерть всегда была прочно вписана в порядок вещей, бабушка и взяла меня как-то с собой на деревенские похороны.
Не помню, кого хоронили. Какого-то огромного деда с белой проволочной бородой. Он лежал в крашеном гробу, гроб стоял на столе, и ничего, кроме бороды, из него не было видно. Бороду эту ужасно хотелось потрогать, и бабушка, словно почувствовав во мне еще одну дьявольскую страсть, отправила меня играть с деревенскими детьми. Я тут же нашла какую-то лохматую девочку в трусах и выяснила у нее, где в доме спальни и есть ли там пуховые подушки с тюлем. Последующие часы — а может, это были минуты — я помню как одни из самых счастливых и беззаботных в моей жизни.
О смерти я в тот день не думала вовсе.
Однако недвижимая белая борода хоть и не сильно меня занимала, но все же периодически возникала в неясных мыслях. Так и не решившись спросить про похороны у бабушки, я обратилась к добрейшей тете Оле, жене моего родного дядьки. Она, ни секунды не желая ничего дурного, сказала, что рано или поздно мы все умрем — от старости, от болезней, от несчастных случаев или каких-нибудь нелепостей. Я помню, как сильно забеспокоилась. И как тяжело мне было задать вопрос, умрет ли моя мама.
— Все мы умрем, — сказала мне тетя Оля. — И мама твоя умрет.
Я тут же представила, что мамы моей больше нет и что к осени она не приедет в поселок меня забирать. Я заплакала, вышла в другую комнату, нашла там свою младшую двоюродную сестру Настю и сквозь слезы сказала ей, что в мире есть смерть и мы все умрем, но главное — моя мама умрет и ее мама, тетя Оля, умрет тоже.
— Я хочу, чтобы ты жила легко! Лег-ко! Не переживай ни о чем! Ни о чем!
Известие это потрясло Настю так же, как и меня. И долго потом сидели мы с ней на диване и горько-горько плакали, а все на свете проклявшая тетя Оля, которую мы никак не могли перестать хоронить, не знала, как нас утешить. Отголосок того глубокого чувства потери — еще не случившейся, но такой чудовищной в своей предопределенности и неизбежности — я легко могу возродить в себе до сих пор. Я помню это чувство, помню зареванное, красное лицо Насти и как трудно мне было дышать из-за слез и ужасной боли.
Успокоили меня разговором о Боге и ангелах небесных.
О смерти я с тех пор старалась всерьез не думать, ходила в церковь, читала Евангелие и как-то убедила себя, что в грядущей, пугающей тьме нет ничего, кроме света.
Когда спустя много лет умер дед, я не приехала на похороны из Москвы.
— Нечего на покойников глазеть, — строго сказала мне мать в телефон. — Психологи пишут, что у вас, у творческих людей, тонкая душевная организация. Впечатлишься и будешь потом как какой-нибудь Достоевский со своей лошадью.
— Мам, лошадь была у Ницше…
— Не мамкай! У Достоевского там тоже была какая-то лошадь! В общем, не надо смотреть на все эти ужасы. Ваше поколение может жить легко. Я хочу, чтобы ты жила легко! Лег-ко! Не переживай ни о чем! Ни о чем!
Но легкой жизни, которой так желала для меня мать, никогда у меня не было. А почему — я и сама не знаю.
Тяжело мне было всегда. Казалось, что я сама ищу этой тяжести — в учебе, в работе, во всех своих увлечениях. Если учиться — то чему-то, что непременно будет даваться сложнее всего. Если работать — то там, где нужно отдать все силы. Если любить — то кого-нибудь недостижимого. Так я училась в физико-технической школе, к которой у меня не было ни малейшей склонности. Так влюблялась в актеров столичных театров и преподавателей. Так писала про металлургическую и химическую промышленность после университета. Так три с половиной года работала в политическом журнале, где большинство сотрудников не задерживались более чем на два месяца.
Вся суть этих усилий сводилась к выживанию, которое мне и представлялось наиболее достойным занятием. Легкая жизнь мне казалась уделом людей очень глупых, или бесталанных, или каких-нибудь малахольных. Ну в самом деле, как же читающий, думающий, переживающий человек в России может жить легкой жизнью? Как же может он не страдать, когда принимаются ужасные законы, когда невиновных сажают в тюрьмы, когда толпы людей, по сообщениям независимых СМИ, бегут за границу, когда зима стоит за окном по полгода, а Россия — которая тебя родила, воспитала и вырастила — мрачно молчит вокруг и молчание это тягостное и страшное?
Нет, нужно страдать, и плакать, и жаловаться, и всего на свете бояться, а главное — будущего, которым, конечно, уже завладело какое-то зло.
Откуда пришли ко мне эти мысли — я до сих пор не знаю. Возможно, зловещая бабушка Аня, которая в тихом своем поселке жила словно на войне, мне что-то передала, а может быть, их невольно внушили родители, последние лет пятнадцать ждавшие какой-нибудь катастрофы. Мне все хотелось, чтобы кто-нибудь меня защитил, оградил от всех бед, от Москвы, от несчастной любви, от злого редактора и жестокой страны, но я не знала, кто это может быть.
Тревога. Страшная тревога — за себя, за свое будущее, за нерожденных еще детей — владела мною всецело.
И когда страх этот достиг апогея, в моей жизни появился Герундий.
Было это тоже весной — кажется, в апреле.
Шла война. Ну то есть как шла… где-то шла война. Не под нашими окнами и даже не в нашей стране. И даже — по утверждению федеральных СМИ — не наша страна принимала в этой войне участие. Однако все знали, что воюют там наши, и умирают там наши, и отвечать за все это тоже придется нам.
В редакции маленького политического журнала, где я тогда работала, разговоры все, разумеется, тоже были лишь о войне. Главный редактор — женщина сильная, громкая, властная — выглядела очень воодушевленной, говорила, что мы живем в «интересное время», и почему-то все время хотела отправить на войну тихого непьющего вегетарианца, работавшего у нас в отделе «Политика».
Я восхищалась военными репортажами и чувствовала себя очень никчемной. В социальных сетях превозносили героев, которые ездили под пули писать репортажи, а я сидела в редакции и делала материалы про бесконечные политические суды.
К тому же мне было тогда одиноко. Два самых любимых моих человека — Латышка и А.Г. — ушли вместе в паломничество по Испании. Особенно не хватало А.Г., который был сильно старше и много мне помогал. В паломничество это ужасно хотелось и мне, но работа не позволяла все бросить на целый месяц, а кроме того, я знала, что не вынесу долгой пешей дороги — как не вынесу никакой войны.
И вот в это-то беспросветное время появился Герундий.
Незадолго до этого у моих родителей умер кот, и они горевали. Переживания их были мне непонятны, и я решила найти им другого кота. В начале мая в ленте Фейсбука мне попался пост о том, что был найден на улице белый котенок, и я сразу откликнулась.
Мне вручили тощее существо. К нему прилагались обширный набор лекарств и длинная рукописная инструкция по эксплуатации.
Кота, как выяснилось, спас бывший член радикальной организации, которая во времена моей юности обладала мощной романтической силой, а ныне признана экстремистской и запрещена в России. Домой к нему я ехала не без любопытства и была вознаграждена вполне: у бывшего члена ныне экстремистской организации и его супруги в квартире жило невообразимое количество котов. Они были всюду — на диванах и шкафах, на кухне и в коридоре, на лежанках и в лотках; то было настоящее кошачье царство, в котором любой человек торчал как похабный кукиш. Под пристальным взглядом десятков кошачьих глаз вручили мне тощее существо, покрытое даже не шерстью, а словно бы белым пухом. К нему прилагались обширный набор лекарств и длинная рукописная инструкция по эксплуатации. Вдруг оказалось, что нельзя просто так взять и завести кота. Мне велели кормить его таблетками от паразитов, регулярно промывать ему уши, добавлять в еду витамины, читать составы пакетиков с кормом, заткнуть в квартире все щели, поставить на окна сетки, купить когтеточки и бог знает что еще. Я слушала это все с ужасом, смотрела на длинный список рекомендаций в своих руках и не понимала, как вообще живут люди с котами. Как жили с котом мои мама и папа? Я с беспокойством вдруг вспомнила, что у кота Маркиза из моего детства не было когтеточки.
Переноску с котом я везла домой как величайшую ценность. Но дальше пошло все не так.
Отец по телефону очень обрадовался подарку. Чего никак нельзя было сказать о моей маме. Я, кстати, думаю, что в родителях есть какие-то механизмы, которые включаются против их воли. Например, все мамы при виде любого животного непременно сначала должны заявить: «Только через мой труп!» Они, может, даже хотят этого щенка или котенка, но никак не могут сказать иначе. Открывают рот, а рот вдруг и говорит: «Только через мой труп!» Потом должен последовать обязательный ритуал: ребенок орет, корчит рожи, жмет котенка к груди, котенок пучит глаза, и родитель, наконец упившись своею властью, дает вдруг добро.
Но мне было не пять уже лет.
— Хорошо, — сказала я развопившейся матери. — Котенок останется у меня. Я буду его хозяйкой.
Сказала и испугалась.
Слова эти — «я буду его хозяйкой» — вдруг прозвучали как заклинание, которое нельзя отменить. Мать тоже почему-то перепугалась, пошла на попятную, сказала, что заберет кота лично, но я уже не могла ей позволить.
Кот смотрел на меня немигающим голубым взглядом.
Мне было не по себе.
Очень скоро в нашей тихой совковой двушке возник нескончаемый диалог, один из участников которого никогда ничего не говорил.
Очень скоро наш дом — наша тихая совковая двушка в бумажных обоях — наполнился звуками, ранее ему несвойственными. Более того, в нем вдруг возник нескончаемый диалог, один из участников которого никогда ничего не говорил.
— Уходи. Я молю тебя, уходи. Дай мне спать. Дай мне еще поспать. Нет, нет, перестань. Уходи. Уходи. Иди, говорю. Что ты там грызешь? Что ты грызешь? Господи, провод от телефона! Пошел! Уходи!
— Нельзя кусать за ухо! Я запрещаю тебе кусать за ухо! Я повелеваю тебе — не кусай меня за ухо! Хочешь лежать в кровати, так не грызись!
— Ты дерешь диван. Нет, ты реально думаешь, я не слышу, что ты дерешь диван?
— Нет, нельзя тащить пыль из-под холодильника. Нельзя. Уходи оттуда. И жрать пыль из-под холодильника тоже нельзя! Выплюнь, выплюнь... тьфу, дрянь какая. Ты что, не видишь, что это грязь? Дурень.
— Перестань. Нет, я не могу спать, когда ты лежишь на моем лице. Не могу!
Соседка моя на кота сначала смотрела с большими сомнениями и недовольством. Молодой ученый, специалист по Пушкину, Баратынскому и Лермонтову, она предпочитала, чтобы в квартире была архивная тишина.
— Черепахи, — говорила моя соседка. — Самые лучшие домашние животные — это черепахи.
Я знала, что черепахи жили в доме ее родителей и что судьба их самым нелепым образом была связана с Баратынским и его дорогой супругой: одну черепаху звали Ахилл Абрамыч, другую — Попинька. Я также знала, что Ахилл Абрамыч был на редкость агрессивным созданием и, в отличие от Баратынского, который жену свою очень любил, все время изгонял Попиньку из аквариума. В общем, на втором году жизни с моей соседкой о черепахах я знала гораздо больше, чем о котах, и они не казались мне такими уж холоднокровными.
Соседку с котом примирили два обстоятельства. Во-первых, его звали Герундий. С именем этим его мне вручили — то есть кота словно сама судьба обрекла жить с филологом и журналистом. Во-вторых, все расходы и неудобства, связанные с содержанием животного, я обещала взять на себя.
О чем тут же, разумеется, пожалела.
Будучи человеком, который без содрогания не может вынести мусорное ведро, я столкнулась с ужасными испытаниями. Во-первых, мне приходилось чистить лоток. Во-вторых, мне приходилось чистить коту уши, в которых жила и плодилась какая-то черная дрянь. Сам кот в эти тяжелые для меня моменты вел себя безобразно: чистому наполнителю в лотке он радовался, словно первому снегу, и гонял его по всему коридору, а во время омерзительной чистки ушей пытался жрать грязную вату.
Была и масса других неудобств.
Я добросовестно заткнула все щели в квартире, но кот за диваном нашел неучтенную дырку и спал только там. В дыре той было ужасно пыльно, и пыль эта, конечно, потом гуляла по всей квартире. В конце концов рассвирепев, я взяла пылесос и тряпки и вычистила все места, куда могла дотянуться, после чего задиванье утратило для кота свою прелесть. Однако он стремительно рос на «нежнейшем филе ягненка с добавлением злаков и минералов» и недолго искал себе новое развлечение.
Слова застряли у меня в горле, когда, вернувшись как-то из магазина, я застала полнейший разгром, а болтающийся на обоях кот — белый и длинный, словно упаковка ватных тампонов, — медленно повернул ко мне голову. И уставился взглядом ангельской чистоты.
Терпение мое каждый день доходило до новых пределов, пока как-то утром я не пришла домой из редакции совершенно опустошенная, и кот вдруг выскочил ко мне в коридор, нелепо раскинув лапы. Он, разумеется, подозревал, что я принесла из круглосуточного магазина мясные палочки. А может быть, просто хотел дожрать шнурки на моих кроссовках, за которые принялся еще утром. Но мне почему-то вдруг показалось, что он мне рад, что он, может быть, меня ждал. Я вытащила шнурки из розовой пасти и понесла извивающегося кота на кухню. Мне очень хотелось спать, но дать коту длинную съедобную палку мне отчего-то хотелось сильнее. И смотреть, как он грызет ее. И урчит. И знать, что кому-то из-за меня хорошо.
Потом я лежала в кровати, кот скакал по моему усталому телу, а я объясняла ему, что никакой он не кот, а заяц, который думает, что он кот, и это мое глупое бормотание очень мне нравилось, и в конце концов я уснула, как давно уже не спала.
Вообще кота как-то очень все полюбили. Полюбила соседка, полюбили все наши гости. Он был белым и мягким, нелепым и бестолковым. И в нем была жизнь — очень сильная, чистая, удивительная энергия, которая словно каждому рядом что-то давала.
— Оля, ну что вы теперь, на бл**ки? — спрашивала меня под утро главный редактор, которую, казалось, не брала никакая сила — ни коньяк, ни усталость, ни возраст.
Я смеялась, когда под утро он грыз меня за сережку, смеялась, когда вытаскивала его из раковины или мусорного ведра. Мы все бесконечно с ним хохотали. Вся наша квартира стала другой — в ней каждый предмет оказался вдруг вовлечен в какую-то живую историю (для многих она, впрочем, была очень короткой). Ботинки, подушки и канцелярские принадлежности хаотически перемещались по всему дому, а многие вещи покинули те места, на которых стояли годами.
Я вдруг почувствовала, что у меня есть дом, а не просто съемная комната. И что дом — это место, где тебя ждут и куда ты торопишься. Я впервые о ком-то заботилась, и меня потрясло, что забота может быть счастьем, а не проблемой. Но чем счастливее и веселее я была дома, тем все более несчастной чувствовала себя на работе.
Продолжалась война. Продолжались суды. Латышка вернулась, но А.Г. застрял в Португалии. Мне уже не было так одиноко, но мысль, что жить можно по-другому, что не обязательно все должно быть так тяжело, возникла во мне и не желала меня покидать.
Я приходила домой после ночной сдачи номера, смотрела, как ходит туда-сюда кот, засунув голову в тапок, и думала, что нет ничего счастливее этой жизни и нет ничего скучнее и бессмысленнее ночной сдачи номера.
Эти мысли одолевали меня особенно сильно по вечерам пятницы, когда мы отправляли номер в печать, а все знакомые и друзья расходились по кабакам, веселились и пили. Когда я часами ждала на подпись бумажные полосы и курила одну за одной в редакционном туалете, глядя в окно на кирпичные развалины, в которых мы подозревали старинные конюшни. Когда больше всего на свете хотелось домой, к коту.
— Оля, ну что вы теперь, на бл**ки? — спрашивала меня под утро главный редактор, которую, казалось, не брала никакая сила — ни коньяк, ни усталость, ни возраст.
— Нет, — отвечала я, с трудом поворачивая ручку входной двери.
Хотелось дойти до окна в курилке и выброситься в конюшни.
А.Г. вернулся, кажется, в начале июня. Он приехал весь черный от загара, с отросшей бородой — совсем как пират. Неловко повертел кота в руках, поставил его на пол и многозначительно сказал:
— Кот.
Герундий отнесся к старшему другу с большим уважением. Не драл, не кусал, не смел охотиться за ногами. Но иногда запрыгивал на плечо, ложился как воротник вокруг загорелой шеи и был настоящим котом пилигрима.
К июлю я уволилась из журнала. Ушла в никуда — безрассудно, без сбережений. «Легко. Лег-ко, — все повторяла я про себя как мантру. — Жить нужно лег-ко». В голове тяжело ворочались страхи — за себя, за будущее, за нерожденных еще детей.
Но кот от всего отвлекал.
Он начал красть. Сначала стащил ботинок соседки и спрятал его у меня в кровати. Затем, буквально у меня на глазах, с концами унес упаковку жвачки куда-то в шкаф, и там она сгинула. В доме не осталось ни одной зажигалки, а большинство моих носков потеряло пару. Исчезли жидкость для линз и все контейнеры, недальновидно оставленные на столе. Спасти мне удалось лишь с боем вырванную бумажку из банка — выкрал из сумки и нес в неизвестном направлении. В какой-то момент я сдалась. Мне вдруг представилось, что есть в квартире такое место, может быть, даже в шкафу — тайное, темное, доступное только белым котам, — где лежат все эти сокровища. И через много лет я волшебным образом это место найду: влезу в какую-нибудь дверцу, как в фильме «Быть Джоном Малковичем», а там — вся моя жизнь со всеми глупыми мелочами.
Близился мой день рождения.
Мне очень хотелось отметить его грандиозно — так, чтобы день этот стал началом новой, счастливой жизни. Я ежедневно перебирала в уме людей и платья и все решала, кого пригласить и чего надеть.
Мне вдруг представилось, что есть в квартире такое место, может быть, даже в шкафу — тайное, темное, а там — вся моя жизнь со всеми глупыми мелочами.
Соседки в ту ночь дома не было. Когда миновала полночь и наступило 9 июля, я открыла ледяную бутылку шампанского, с наслаждением закурила и села за компьютер — писать большой пост о больших переменах. Я собиралась писать о том, что все теперь будет со мной по-другому, что я совсем перестану ныть и жаловаться, что жизнь открылась мне с иной стороны — светлой, спокойной и радостной. Текст этот я собиралась сопроводить своим переводом стихотворения о белом коте, написанного ирландским монахом в десятом веке и впоследствии переведенного Оденом, которого очень любил А.Г. Я предвкушала свою вечеринку, намеченную на вечер, и как все будут хвалить меня за этот перевод.
Текст почему-то шел плохо, я курила одну за одной и в конце концов так задымила кухню, что пришлось распахнуть окно. На улице прошел дождь, в комнате стало свежо. Я снова села за компьютер, написала еще пару фраз, как вдруг раздался резкий, короткий, скрежещущий звук.
Я застыла с очередной сигаретой в руках.
Я сразу как-то все поняла.
Тело вдруг странно отяжелело, я медленно поднялась, подошла к окну и выглянула в сырую тьму. Посмотрела на узкий жестяной бордюрчик — блестящий и мокрый. Потом так же медленно вышла в коридор, взяла куртку, надела тапки, открыла входную дверь и пошла по ступеням вниз. Я знала, что должна бежать, торопиться, но тело мое словно бы не хотело двигаться в том времени и пространстве, где случилось что-то ужасное и, может быть, непоправимое. Обогнув дом, я вступила в кусты. Сквозь черные ветки деревьев пыталась найти наше окно, но светящиеся квадраты дрожали и путались. Телефон я забыла и шла в темноте. Сердце стучало в ушах, в голове и в руках. «Что, если я наступлю на него, — думала я. — Что, если я на него наступлю». Я представила, как погружается тапок в мягкое и живое, как пальцы ноги чувствуют сквозь подошву конвульсию и как после этого я не могу дальше жить.
Я опустилась на колени и поползла, ощупывая мокрую землю руками. Тут же пришел новый страх — что рука окунется в кровь, в горячую страшную кашу, и что с этим я тоже не смогу дальше жить. Меня замутило. Я ползла вперед, но руки ничего не находили и глаза ничего не видели. Не было никаких звуков. Мокрые листья гладили меня по лицу, оглушительно пахло землей и травой.
И вдруг я увидела его.
Он лежал на траве рядом с узкой полоской асфальта, опоясывавшей дом, и белая шерсть светилась в отблесках телевизора из окна первого этажа. Я присела рядом, осторожно положила на кота руку и почувствовала страшное напряжение во всем его теле — словно весь он одеревенел, сдерживая внутри какую-то жуткую силу. Он дышал очень часто, не моргая и не шевелясь. Я расстелила куртку и осторожно передвинула на нее кота. Я знала, что нельзя шевелить после сильных ушибов людей, потому что может быть поврежден позвоночник. Я также знала, что упавшему человеку можно вызвать скорую и врачи должны быстро приехать. Что нужно делать с разбившимся котом — я совсем не знала.
Я ползла вперед, мокрые листья гладили меня по лицу, оглушительно пахло землей и травой.
В лифте я смогла наконец его рассмотреть. Не было ни крови, ни торчащих костей, которые я воображала себе, когда ползла сквозь кусты, — был только какой-то сор в белой шерсти и странное выражение в оцепеневших глазах. Из-за этих глаз он совсем перестал быть маленьким глупым котом — на руках моих было животное, которое, казалось, прошло сотни лет, прожило много жизней. Старое. Древнее. Видевшее все и до всех пределов. Отяжелевшее от увиденного. Казалось, что кот на моих руках — этот белый старик — и пушистый котенок, хозяйкой которого решила я быть, — не одно и то же. Как будто я вынесла из кустов кого-то другого, чужого.
Я положила кота на кухне и первым делом позвонила А.Г. Мне хотелось, чтобы он утешил меня, как всегда утешал в трудные минуты, сказал, что все можно исправить, чтобы немедленно приехал и придумал, что делать. А.Г. сказал, что приедет, и еще как-то тревожно, коротко помолчал в трубку.
Потом я много еще звонила, слушала советы, искала врачей. Я странно чувствовала свое сердце — словно кто-то взял его в руки и со всех сторон надавил. В кухне говорил мой голос, двигалось мое тело, но я чувствовала и слышала только сдавленный ком в груди.
Кот по-прежнему не шевелился, только часто-часто дышал.
Наконец я нашла врача, и он выехал к нам.
— Глупый, — сказала я, присев рядом на пол, — зачем же ты пошел в это окно. В единственное окно, где нет сетки.
Кот все смотрел в пространство, и по взгляду его было ясно, что пространство это иное, недоступное мне. Я осторожно погладила его бок, и вдруг он стал кашлять. Изо рта его выскочил какой-то ошметок. На секунду мне показалось, что случился тот самый момент, жить с которым мне будет потом невозможно, но затем, присмотревшись, я поняла, что это был кусочек «лакомой грудки», съеденной вечность назад.
Наконец приехал А.Г. Помочь он ничем не мог, и казалось, что даже и не стремился. Он ходил по квартире, курил, задавал вопросы, которые выводили меня из себя и в то же время слегка приводили в чувство, иногда клал свою руку мне на голову или на плечи. Я сердилась на него за то, что он — такой взрослый и умный — не может ничего сделать. Были моменты, когда я вдруг начинала говорить что-то быстро и возбужденно. Кажется, даже плакала. Я не помню.
Приехал врач. Кота положили на стол. Врач долго его ощупывал и осматривал, качал головой. Наконец сделал два укола, сказав, что это обезболивающее и какой-то препарат от стресса.
Холодная темная тень, которая словно ходила за мной по квартире, вдруг отступила, а сердце разжалось, забилось ровно и радостно. У меня никто не умрет.
Может быть, он говорил или делал что-то еще. Я потом за многое себя очень винила: за выбор врача, за то, что не повезла кота в ночи в какую-нибудь клинику на рентген. Я боялась везти его в машине, но это я ведь сейчас себе так говорю. Чего я боялась тогда на самом деле — сейчас уже не узнать, не понять и не вспомнить.
Врач успокоил меня, сказал, что к утру станет лучше, что ничего не сломано, и я с готовностью успокоилась. Холодная темная тень, которая словно ходила за мной по квартире, вдруг отступила, а сердце разжалось, забилось ровно и радостно. Кот не умрет. У меня никто не умрет. А сетку я тут поставлю. Поставлю всенепременно.
Я гладила кота по голове, бормотала ему что-то ласковое, он поднял голову и посмотрел на меня. Он смотрел на меня, как смотрят, наверное, на родителя, на кого-то, кто должен быть рядом большим и сильным. Он как будто просил меня, чтобы я все исправила, помогла ему, потому что я ведь всегда над ним властвую — я кормлю, и чешу, и играю, и ругаю его, когда мне вздумается. «Почему же ты никак не поможешь мне?»
— Господи, я не могу, не могу, не могу тебе помочь, — плакала я. — Я даже не знаю, где у тебя болит.
И вдруг он пополз. Поднялся на передних лапах и поволок себя по коридору. Не шевелились задние лапы, не шевелился хвост. Кот полз и полз, а я двигалась за ним, словно в трансе.
Я долго пыталась его уложить. Сидела с ним. Разговаривала. Давала воду. Наконец он уснул в моей комнате. Дыхание было ровным.
А.Г. сказал, что я тоже должна поспать.
Я легла на диван — так, чтоб видно было кота, и на несколько часов отключилась.
Когда я проснулась, в окно било солнце. Я посмотрела туда, где должен был лежать кот, но его там не было. С дивана я видела почти всю комнату, и везде было пусто.
На секунду я подумала, что он встал и вышел, что я найду его в коридоре, на кухне. Но тут же я поняла, что это не так. Кота в комнате не было. Но в комнате было что-то еще. Все вещи лежали на своих местах, и вся мебель стояла так же. Но в ней что-то случилось. В моей комнате что-то случилось, пока я спала.
Я свесилась с дивана. Герундий лежал тут же, рядом. Глаза его были прикрыты, и сквозь щель было видно, что один из зрачков уплыл.
Мне стало так страшно, как не было никогда в жизни. Я закричала, прибежал А.Г. с кухни.
Прибежал и застыл. На кота он не смотрел. Он смотрел на меня.
Смотрел так, словно это со мной случилось что-то непоправимое, от чего он хотел бы меня уберечь и не смог.
А спустя много часов, когда кот уже был похоронен и когда я могла уже слушать и говорить, А.Г. погладил меня по голове и сказал, что ему очень жаль, что так кончилось мое детство. А потом рассказал про сады за огненной рекой.
Если бы я снимала кино, то в конце хозяйка кота, уже сгорбленная седая старушка, доживающая последние дни, обязательно бы приехала в ту квартиру, где жила молодой девушкой, когда работала в политическом журнале, и шла война, и в стране запретили сыр, и был еще жив второй президент России, а Латышка еще не вернулась в Латвию, и А.Г. еще не исчез. Она попросила бы хозяев квартиры оставить ее ненадолго одну, походила бы, постукивая по паркету палкой, осмотрела бы пыльный угол за новой кроватью, наконец, открыла бы шкаф — хороший, большой шкаф-купе, единственную вещь, которую не выкинули с того времени, — и действительно нашла бы там дверь. Маленькую незакрытую дверь, которую легко мог толкнуть лапой небольшой белый кот.
Она положила бы свою палку, опустилась бы на колени и — как делала уже когда-то очень давно, — ощупывая руками путь, двинулась бы во тьму. В которой, конечно, нет ничего, кроме света.
30 июля 2016 года, Флоренция
Автор — заместитель главного редактора интернет-издания Rus2Web
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаЛидер группы Алексей Августовский — о новом альбоме «Устойчивая непогода» и о том, как написать хорошую песню
8 октября 2021264 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Colta Specials
Colta Specials Кино
Кино Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоНазываем победителей, которых оказалось неожиданно много. P.S.: редакция вообще поражена результатами этого эксперимента
5 октября 2021191 Искусство
ИскусствоЗрелищность и интуиция, лед и пламя караваджистов и золотые унитазы во дворцах постсоветского начальства
5 октября 2021317 Современная музыка
Современная музыкаМастер эксцентричной электроники из Кельна — о своих саундтреках и работах в экспериментальном кино
4 октября 2021175 Общество
Общество Литература
Литература Академическая музыка
Академическая музыка