 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202434864 © Kazak Productions
© Kazak ProductionsОдин из самых многообещающих молодых французских режиссеров — сорокадвухлетний Виржиль Вернье за последние 15 лет создал уникальную киновселенную, в которой документ и фикция, неолиберализм и Средние века, магия и страх перед опустошенным миром технокапитализма соединяются в рамках минималистичных штудий, чаще всего снятых на 16 мм и посвященных знаковым топосам современной французской жизни, будь то родина Жанны д'Арк, парижская окраина или полицейский комиссариат. Место действия его последнего полнометражного фильма «София Антиполис», впервые показанного в программе «Режиссеры современности» в Локарно, нагружено смыслами не меньше: за чарующим названием скрывается один из самых крупных технопарков Европы, расположившийся неподалеку от Лазурного Берега. Вернье эта крепость из стекла и бетона интересует не столько в качестве символа современного капитализма, сколько как пространство духовной инфляции и медленно тлеющего апокалипсиса. Несколько, на первый взгляд, не связанных между собой историй — вьетнамская женщина присоединяется к местному псевдорелигиозному культу, парамилитаристский отряд неофашистского толка принимает в свои ряды нового члена, молодая девушка пытается выяснить обстоятельства загадочной смерти своей подруги — складываются в аллегорическую панораму жизни Франции (читай шире — всей Западной Европы) в XXI веке и хроник потерь и поисков веры, изгнанной из технологизированного мира, но возвращающейся в пугающих формах.
Фильм Вернье, вошедший в несколько топ-листов за 2018 год (Film Comment, Sight & Sound, Toronto Film Review), будет показан на фестивале NOW / Film Edition 15 декабря в 20:00. Он включен в тематический блок фестиваля «Апокалипсис сегодня».
В дискуссии после фильма примут участие социолог Константин Гаазе, политолог Глеб Павловский и культуролог Элла Россман. Модерировать дискуссию будет Михаил Ратгауз.
Регистрация на фильм уже закрыта, но вы можете попробовать прийти без гарантий со стороны фестиваля и, увы, без обещаний хороших условий просмотра.
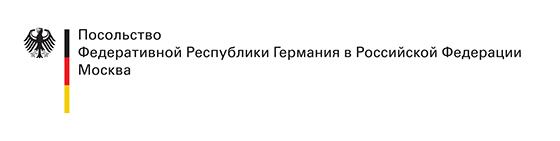
— Готовясь к интервью, я посмотрел почти все ваши работы — и полнометражные, и короткометражные. И был поражен тем, как много элементов кочует у вас из фильма в фильм: Средневековье в разных его проявлениях, фигуры замка, крепости, Жанна д'Арк, почти в каждом фильме есть русские или говорящие на русском персонажи из Восточной Европы — девушки, продающие свою любовь или танцующие с шестом, и так далее. Вы пытаетесь выстроить своими фильмами единую вселенную или, скорее, просто одержимы определенными вещами, к которым постоянно возвращаетесь?
— Что касается Средневековья, то я не то чтобы помешан конкретно на этой эпохе. Меня интересует то, что остается в истории, несмотря на ее движение, меня интересует архаика. И к Средневековью я обращаюсь, чтобы обнаружить в современности те же паттерны, что присутствовали и много веков назад. Многое остается на месте, несмотря на так называемое развитие цивилизации.
— По-моему, это обращение через современность к Средневековью — центральная и абсолютно определяющая вещь для вашего творчества. Потому что, с одной стороны, ваши фильмы являются высказываниями о европейской цивилизации в XXI веке, но в то же время они вполне отражают глобальный кризис рациональности и подъем разного рода спиритуализма, который мы можем наблюдать как в возвращении магического сознания в современную культуру и философию, так и в появлении новых культов — как, например, тот, что готовит своих адептов к Судному дню в вашем фильме. И этот тренд, конечно, обращается к парадигме, которая предшествовала Новому времени.
— Я думаю, даже если религия в том виде, в котором мы привыкли о ней думать, ослабла, люди все равно нуждаются в религиозном начале, им нужно во что-то верить. В «Софии Антиполис» я хотел сделать ощутимой нехватку спиритуального, которая может принимать в том числе и такие странные формы. Духовное, трансцендентное остается важным для каждой эпохи.
 Виржиль Вернье© Manon Lutanie
Виржиль Вернье© Manon Lutanie— Жажда или ожидание апокалипсиса — а ваш фильм показывают именно в этом блоке фестиваля NOW, — на мой взгляд, являются сегодня реакцией на кризис идеи прогресса и недостаток чувства истории. А такая эсхатологическая перспектива возвращает в мир телеологию, идею конца и цели.
— Абсолютно. Это симптом недостатка или ослабления идеологии и веры в современный мир. Я понимаю, о чем вы.
— Так вот, то, что мне кажется наиболее интересным в вашей работе, — это обнажение тонкой и проницаемой границы между «цивилизованным», высокотехнологичным западным миром и бездной чего-то гораздо более мрачного и древнего, что успешно вытесняется из картины современности. На самом деле это даже не граница, а, скорее, зеркало, позволяющее увидеть изнанку современного мира, потому что обе его стороны существуют вместе и единовременно. Как вы можете прокомментировать свою работу с этой синхронией? Так же как и с амбивалентностью утопии и дистопии, проявляющейся, например, в образах современной архитектуры в ваших фильмах.
— Вы имеете в виду контраст между человеческим телом, которое остается слабым и уязвимым, и этими гигантскими зданиями и городами, огромным миром, который кажется могущественным благодаря технологиям и прочим подобным вещам?
— В том числе. К примеру, в «Софии» и в «Меркуриалиях» вы используете небоскребы как эмблематичные образы современного технофутуризма. Но в то же время они воспринимаются как средневековые крепости, с которыми связаны не самые гуманные вещи.
— Мне такие высотки особенно нравятся еще и потому, что они всегда сделаны из стекла, в котором отражаются небо и ландшафт. Кажется, что внутри структур капитализма присутствует что-то, что ты не можешь увидеть, и от этого возникает странное чувство. Как будто эти здания пытаются что-то спрятать, раствориться в ландшафте… По-моему, это важно снимать. Не знаю, как в России, но у нас много таких зеркальных башен — они пытаются исчезнуть в облаках, но ты видишь, что они непрозрачны. И это сильный образ: они как змеи, которые прячутся в тени, но при этом очень сильны и опасны.
— То есть справедливо говорить, что вы пытаетесь выявить эту тревожную изнанку, что скрывается за гладкой поверхностью технокапитализма?
— Я не хочу звучать слишком серьезно или теоретически, но, безусловно, я испытываю огромный страх и беспокойство перед этими образами неолиберального мира: все это крайне пугающе. Снимая кино, я хочу вернуть себе силу и уверенность перед лицом этого мира и показать, что мы не боимся.
— Это мощная программа. В каком-то из интервью я читал, что для вас в принципе важен поиск таких эмблематичных символов современности, и понятно, что искать их стоит в массовой культуре. Видимо, поэтому в своих фильмах вы используете found footage, найденный на просторах интернета?
— Я вообще обращаю свой взгляд преимущественно на очень тривиальные и приземленные вещи — чтобы понять, какие символы вбирают в себя дух сегодняшнего дня. И чем более они будничные, тем они мне интереснее — слишком скучно обращаться к тому, что как будто само по себе обладает аурой. Вместо того чтобы использовать то, что и так маркировано как магическое, я предпочитаю использовать кино, чтобы выявить что-то скрытое. Поэтому в самых простых и бедных изображениях в интернете можно найти нечто важное, что можно воспроизвести в режиссуре.
— Когда я смотрел ваши фильмы, я начал думать, что в вашем подходе есть что-то от алхимии — в том, как вы, сополагая и соединяя элементы с помощью монтажа, сообщаете им новые качества. И совершенно не удивился, когда буквально через несколько минут после этой мысли увидел в кадре гадание на картах Таро.
— Как по мне, так все кино устроено подобным образом. Я неспроста снимаю на пленку: она ближе к алхимии, когда с помощью химических процессов ты можешь выявить нечто возвышенное и магическое. Все, что я делаю, направлено на это. Иногда это получается, иногда нет, но я пытаюсь.
 © Kazak Productions
© Kazak Productions— Еще один элемент, присутствующий во многих ваших фильмах, — это милитаризм: охранники, военные, закрытые милитаристские и неонацистские группы. Откуда это, что оно символизирует? Подсознательный уровень современной цивилизации?
— В этом много разных символов сразу. В моих фильмах обычно черные или арабы являются членами подобных сообществ, потому что во Франции имеет место что-то вроде неорабства: в нашей стране, если вы хотите создать ЧОП, вы нанимаете черных или арабов, потому что белые их боятся. В то же время это новая форма расизма и подчинения. Раньше в армию или подобные структуры шли молодые люди, которые не знали, куда еще им податься. Теперь во Франции нет воинов, людям нет необходимости доказывать, что они сильны и опасны, что они — настоящие мужчины. Но из-за этого возникает и обратный эффект: многие на свой лад пытаются доказать, что они не трусы. И это создает очень странную атмосферу. В моих фильмах эта милитаристская составляющая означает разные вещи в зависимости от контекста. Что объединяет эти контексты — так это, наверное, вечное предощущение войны и страх перед ней.
— А что насчет образа средневекового клинка, который возникает у вас в разных фильмах? В иконографии Таро этот образ также занимает важное место. Связан ли он с войной и милитаризмом, о которых мы говорили?
— Нет, это совсем другое. В моих фильмах меч принадлежит женщинам. В историографии он связан с такими фигурами, как Жанна д'Арк, Юдифь из Ветхого Завета — знаете ее? Которая отрубила голову полководцу Олоферну. Я зачарован мыслями о том, что женщины, которые, с одной стороны, слабее всех этих милитаризированных мужчин, в то же время могут быть и амазонками, использовать свой меч. Они не хотят быть жертвами, они хотят быть воинами и дать отпор.
— Еще мне было бы интересно узнать про этот «русский след», который есть, по-моему, в каждой вашей работе: эти женщины с постсоветского пространства, говорящие по-русски и часто продающие себя. Я читал в каком-то интервью, что у вас румынские корни, но, уверен, дело не только в этом. Это игра с бытующими на Западе культурными клише о варварстве восточноевропейцев?
— Эти клише мне совершенно не нравятся. Когда я был ребенком, мама часто читала мне истории про Восток, в которых было много мистического и чарующего, — это сильно на меня повлияло. Я хочу найти эту сказочную составляющую в современности и обнаружить связи между теми историями и сегодняшним днем. Я зачарован российской культурой — по многим причинам… А вы сами как думаете? Как это воспринимается?
— Как я уже сказал, с одной стороны, наверное, работа с этим чувством превосходства и в то же время страхом «цивилизованного» Запада перед Восточной Европой, с другой — возможно, ощущение некоего альтернативного модуса существования.
— Наверное, да, я держу в голове это клише в восприятии Востока, но в то же время я вижу в России и других странах Восточной Европы большу́ю силу: люди оттуда более настоящие, говорят то, что думают, не прячутся за своей болтовней, и это я хочу показать. В моем следующем фильме, над которым я сейчас работаю, будет много молодых персонажей из России. Я знаю, что это клише, но они более необузданные, даже грубые, в них больше реальности. Это сложно объяснить, для этого нужно увидеть фильм, но я крайне заворожен всем этим.
 © Kazak Productions
© Kazak Productions— Почему так важно для вас это сказочное измерение повествования, которое вы набрасываете на снимаемую реальность или обнаруживаете в ней? Это способ построения критики неолиберализма? Или, может, форма побега от него?
— Я пытаюсь найти ответ на этот вопрос, потому что это, конечно, очень важно. Сейчас я работаю над новым сценарием, и сказочность играет в нем очень большую роль, более значительную, чем во всех моих предыдущих фильмах. И я сам задаюсь этим вопросом постоянно. Думаю, это форма, которая позволяет создавать нечто очень сильное, непосредственное и при этом не психологизированное, проводя параллели с прошлым. В сказках интересно то, что и сегодня, и во времена Средневековья, и в древности они воспринимались одинаково. В каком-то смысле это лучший язык человечества.
— В вашем кинематографе очень важны отношения между игровым и документальным — чисто неигровое кино в вашей фильмографии тоже есть. Но у вас граница между ними очень зыбкая, к тому же вы постоянно намеренно ее переходите. Как вы осмысляете отношения между двумя этими видами кино?
— Я понимаю, почему вы спрашиваете, но сам я такими категориями не пользуюсь. Я стремлюсь делать кино, в котором люди говорят естественным образом, а не так, как будто они на сцене в театре. Мне неинтересно вкладывать конкретные слова в уста своих героев; куда больше мне нравится запечатлевать людей в их естественных поведении, общении, внешнем виде — и работать с тем, что сообщает нам их собственный мир. Я не умею работать с профессиональными актерами; куда интереснее мне снимать тех, кого я сам нахожу и у кого есть собственные аура и уникальность.
— Я большой поклонник Джеймса Ферраро и не могу сказать, что сильно удивился, услышав его музыку в ваших фильмах, — вы действительно занимаетесь очень созвучными вещами. Лет семь-восемь назад, когда он приезжал в Москву, я брал у него интервью, и, я помню, меня заинтересовали его слова о массовой культуре — что она его волнует, потому что она интернациональна и, работая с ее символами, он работает с бессознательным всей мировой культуры. А вы в чем видите параллели между тем, что делаете вы, и тем, чем занимается он?
— Это больше чувственный момент, я не хочу говорить об этом в излишне интеллектуализированном ключе. Музыка ведь, в первую очередь, работает, потому что вызывает ощущение, что она как-то связана с тем, что у вас внутри, и не всегда понятно, как именно. Но мне его музыка нравится своей странной сновидческой атмосферой, которую я ищу.
 © Kazak Productions
© Kazak Productions— А главные свои кинематографические влияния можете назвать? Ваше кино кажется сильно укорененным во французской традиции, вызывает ассоциации с такими режиссерами, как Брессон, Эсташ, Люк Мулле, может быть, Риветт… Но в то же время двигает ее в какую-то новую сторону.
— Сложно сказать. Чем больше смотришь, тем сложнее выделить кого-то конкретного. Всех, кого вы назвали, я действительно люблю, они — часть моего воображаемого, но их фильмы я открыл для себя давно, и сейчас мне тяжело вспомнить, кто же конкретно на меня повлиял. Например, телепрограммы тоже оказывают сильное влияние. Помимо названных режиссеров, которые очень важны для меня, я люблю многих немцев, российских режиссеров… Не знаю, сложно.
— О'кей, кого из немцев и русских?
— Вернера Шретера. Фассбиндера, конечно, я люблю, как и все. Из русских? Виталий Каневский — мой любимый режиссер.
— А чем еще вы занимаетесь помимо кино? В каком-то интервью я читал, что вы также пишете книги о рекламе.
— Да, если я не снимаю, то в основном работаю над книгами. Для каждого своего фильма я делаю большой ресерч: многое я заимствую из газет, интернета — отовсюду. И, к сожалению, не все из этого получается использовать в кино (а хотелось бы). Поэтому книги — идеальный способ поделиться с миром теми странными документами, которые я нахожу. По мне, в рекламе можно найти идеальные образы того, чем живет сегодняшний мир. И первая моя книга была посвящена рекламе часов, которая очень меня интересовала тогда: часы — это ведь один из символов тщеты, vanitas, в живописи. Это серия из семи книг, составленных из изображений, которые я нахожу в медиа, в интернете и так далее, — своего рода псевдоэнциклопедия современности. Пока я сделал три. Так я готовлюсь к своим фильмам. Это как эскизы, которые художники делают перед картинами.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202434864 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202432951 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202435444 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202440902 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202441469 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202443825 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202444623 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202450280 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202449692 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202443733 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials