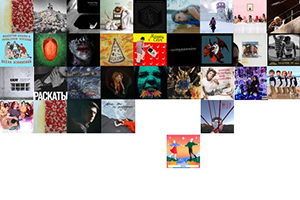Сегодня до 23:00 в рамках проекта «Синема верите» вы можете посмотреть материал к будущему фильму о Крыме и Майдане «Украина. Реальность». Мы показывали его и обсуждали дважды: 3 апреля — в Москве, вы можете почитать разговор после фильма вот здесь . И 14 апреля — в Екатеринбурге.
В разговоре принимали участие один из авторов проекта Беата Бубенец, политологи Федор Крашенинников и Константин Киселев, директор фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко, а также философ Елена Трубина и режиссер-документалист Андрей Титов.
Михаил Ратгауз: У меня традиционный вопрос для затравки. Какое у вас впечатление от увиденного?
Федор Крашенинников: Как я сейчас понимаю, на Майдане все не кончилось, а только началось. И я думаю, что ваша проблема во многом — как создать фильм с целостной концепцией. Потому что время вносит в нее поправку моментально. Представьте, вы снимали фильм про Февральскую революцию 1917 года в России — как прекрасно, царя свергли, все ходят с флагами, и только начали монтировать, как тут понеслась какая-то ерунда! То, се, какие-то большевики загадили весь Петроград. Мы вроде еще все радуемся, но нам уже всем неловко, какие-то мутные личности ходят и всех бьют, неприятно...
И это, я думаю, ваша проблема в смысле, что вам было трудно быстро перестроиться, как мне показалось как зрителю. Когда вы приехали в Крым, вы не ожидали увидеть другую сторону украинской ситуации. Потому что, как мы сейчас это видим, не все так просто. Примерно с тем же пафосом, мне кажется, и в Киеве все происходило, что мы сейчас из Киева Януковича выгоним и тут наступит такая новая светлая жизнь, что зашибись. И как только они выгнали Януковича, несколько дней праздновали, молебны служили, «небесную сотню» славили, все было прекрасно, и в это время, как во всякой революции, перегруппировала силы контрреволюция — а надо понимать, что всегда есть масса недовольных, — и выяснилось, что, кроме Киева и других регионов, есть еще регионы, которые вообще никак в этом процессе не участвовали и не испытывали этой радости на Майдане. Кстати, я уверен, что мы могли бы найти людей с неприятными лицами и неприятной радостью и в Киеве. Видно и по вашим съемкам, что и на Майдане не все были благородные супергерои, там тоже собрались разные люди.
Так вот, выяснилось, что несколько регионов Украины не пережили эту радость, и они стали той самой Вандеей, которая есть в каждой революции. Поэтому, может быть, когда-нибудь потом мы поймем хотя бы поэтапность какую-то, но Майдан — это предисловие. Новейшая история Украины, том второй, предисловие — Майдан, свергли Януковича, и начинается уже главная часть. Так что итоги подводить рано. Я шел сюда, думая: что можно сказать о ситуации в Киеве, если она не закончилась? Ничего! По сути, что там произошло и к чему это приведет, мы сможем более-менее четко осмыслить, когда цикл этой революции завершится.
И, возможно, интересность этой дискуссии в том, что мы внутри истории. Не в конце, а мы плывем внутри этого потока истории и пытаемся что-то высмотреть. И я хочу, чтобы мы все это понимали, что мы сейчас плывем в самой середине и не можем даже на бугорочек залезть, чтобы посмотреть вокруг. Мы все в этих волнах и украинской пропаганды, и российской пропаганды, и своих личных восприятий. Для мыслящих людей труднее всего признаться себе, что мы ничего не понимаем. Вот мне, например. Я честно могу сказать, что я несколько раз ошибся в своих письменных в том числе статьях, я несколько раз ошибся, когда делал предсказания исходя из рациональных вещей. Я не думал, что Путин захватит Крым, я не думал, что будет это безобразие на Восточной Украине. Потому что я мыслил рационально. И я хочу вам сказать, что мы с моим коллегой Сергеем Мошкиным сошлись в одном: земля уходит из-под ног, мы не знаем, что будет завтра, у нас нет рационального осмысления, мы не понимаем, что происходит. И это, мне кажется, самое страшное для любого мыслящего человека — не понимать, куда нас тащат волны истории.
 © Нурия Фатихова
© Нурия ФатиховаКонстантин Киселев: Прежде чем оценивать то, что происходит на Украине, и оценивать сборку, мы должны очень четко зафиксировать свою позицию. И я, безусловно, сочувствую Майдану и совсем не сочувствую тому, что происходит в Крыму. В фильме позиция авторов пока еще не прорисована достаточно четко, через героев, этого нет. Какого-то единого плана, рационального, художественного плана я пока не увидел.
Зритель: Разрешите мне сказать как кинематографисту и старому человеку! Я удивляюсь вашим высказываниям. С самого начала нас предупредили, что нам показывают материал. Фильма здесь еще нет! И я хотела бы спросить: среди присутствующих есть люди, которые были там в это время?
Беата Бубенец: Я была.
Зритель: Спасибо вам большое! И давайте будем аплодировать людям, которые, рискуя собой, все это снимали, находились там в это время. Вот я им аплодирую и восхищаюсь ими! (аплодисменты)
Лилия Немченко: Костя, поделом получили, потому что говорили несколько раз, что это только первая сборка… Понятно, что в фильме две разные совершенно истории, они очевидны — Киев и Крым. Это многоликое, полифоническое, страшное при этом звучание Киева. Никакой эйфории, честно говоря, я не увидела, потому что мы понимаем, что за всем этим восторгом проступают очень трагические вещи, и они доказаны самой жизнью. И похороны, акты вандализма как оборотная сторона. И, с другой стороны, Крым с его мелосом, радиостанцией «Шансон» и таким монологичным звуковым высказыванием. Просто попадаешь в хорошо известную и не очень приятную звуковую стихию.
Киселев: А во второй серии был ли Крым? Или это Тагил? Потому что Крым для меня — когда «Медея и ее дети» Улицкой, это Крым, я это чувствую, я вижу этот запах, он нагляден, его можно потрогать. А здесь был Тагил. Крым-то был героем?
Немченко: Я думаю, что был как раз Крым. Я, правда, раза два по полторы минуты смотрела то, что нам показывал Первый канал, этим было невозможно даже глажку скрасить, и, может быть, я ошибаюсь, но такой Крым и есть.
Зритель: Там и Киева не было, в котором бывал я многократно, в котором провел лучшие месяцы своего детства. Киев-то неузнаваемый в этом фильме. Ни Крыма, ни Киева не было. Другой Киев!
Самое страшное для мыслящего человека — не понимать, куда нас тащат волны истории.
Киселев: Конечно, авторам, операторам огромное спасибо, это действительно подвиг — съемки. Вопросов нет. Фильма еще нет, это материалы, это очевидно. Но вот пройдет время — 10 лет, 20 лет, 30 лет, и что-то забудется уже, большая часть забудется. Мы уже не помним, как это все происходило, этот накал, и мы получим этот материал. И я буду его смотреть или его будут смотреть мои дети — вот они поймут, о чем идет речь, или нет? У меня такое ощущение, что я сейчас покажу такие же документальные кадры, которые были во время перестройки, в 1991, 1993 годах, — и уже будет непонимание полное. Да, это материал, я понимаю, но я максималист, мне хочется увидеть все и сразу. Я бы это выстроил, объясняя зрителю, откуда и что это такое, в историческом контексте.
Бубенец: Действительно, съемки еще не закончены. Сейчас кажется, что нельзя заканчивать фильм Майданом и Крымом, должно быть продолжение, и завтра мы встречаемся нашей командой, которая делает этот фильм, и будем обсуждать. Сейчас на Украине никого из наших нет, и я очень переживаю, что происходят яркие события, но никто их не снимает.
Крашенинников: А вам не показалось, что фильм может быть сильнее, если увидеть два государства в одном? Вот этот ужасный шансон — это же и Донецк, и Харьков, и на окраине Киева, я уверен, живет эта публика. Это война миров! Где-то там прекраснодушная интеллигенция играет на роялях, идет за свободу умирать — и в этом же городе на окраине такой же Крым! Там, может быть, даже украиноязычный шансон играет. И на Майдане люди говорят на прекрасном литературном русском, тут же рядом — на украинском и тут же — матерятся хуже любых слесарей, бывает. Мне кажется, что для вашего фильма не нужно обелять, что тут ангелы, а тут…
Трагедия Украины для меня как для мыслящего русского человека — это трагедия и России тоже. Есть две страны в одной, одна не сложилась. Есть страна людей, которые живут Европой и видят себя там, и страна людей, которые живут Советским Союзом и ненавидят этих людей, ненавидят страшно! И вы это показали. Поймите этих людей, они несчастны от этого.
Бубенец: Для меня фильм начался в тот момент, когда я приехала на Майдан и увидела там людей, которые поднимаются куда-то вверх по Институтской, я пошла за ними, и они пришли на Антимайдан. И там были люди за Януковича, и они находились как бы за решеткой, то есть, чтобы туда попасть, нужно было пройти в таком пространстве, которое окружено забором. И вот эти люди с Майдана стали им кричать: посмотрите, что с вами сделали, вы как в зоопарке, вы в клетке. А там играли советские песни, и когда начиналась песня, те, кто за Майдан, замолкали, потому что их было не слышно, и смотрели с такой тоской на людей, которые внутри этой решетки! Я не знаю, как это описать, но это было выразительно. Там две бабушки познакомились, и одна другой говорит: «Вы поймите, мы не хотим, чтобы была война!» И та ей отвечает: «Так и мы тоже не хотим, мы тоже против войны!» И вот это непонимание, разделение — для меня тогда возникло чувство, что нужно это снимать. И дальше закрутился Майдан, все это закрутилось, и сейчас я понимаю, что обязательно нужно продолжать, и фильм будет скорее не о Майдане…
 © Нурия Фатихова
© Нурия ФатиховаЗритель: Михаил Борисов. Я не согласился бы с нашими политологами, которые как бы разделили фильм на две части. Я считаю, что фильм един. И един в том плане, что и в Крыму, и в Киеве происходит одно и то же. Вот я как человек, переживший революцию конца 80-х, понимаю, что революция — это всегда несбыточные огромные ожидания, недовольство тем, что есть, и протест. Вот это есть как в Киеве, так и в Крыму. И там и там люди недовольны тем, что есть, они хотят чего-то нового. Причем и там и там во время революции люди хотят чуда. Потом наступит, как сказал Федор, этап, когда чуда не случится, придет разочарование, но и там, и тут это ожидание чуда. В этом смысле материал великолепен! Он показывает, как люди ждут чего-то и отрицают то, что есть. И в этом смысле любая революция — это болезнь. Вот когда организм поражается болезнью, он болен, он бредит — это революция. Иногда да, человек выздоравливает и восстанавливается, но чаще всего это приводит к определенному историческому откату в силу того, что люди ждут чего-то невозможного и это невозможное не наступает.
Андрей Титов (из зала): Чем больше фильм не понравится противоборствующим сторонам, тем больше он будет явлением достоверным. Потому что легче всего скатиться в агитку и показать только одного героя, одну сторону, отразить впечатления, которых ждет от тебя либо либеральная общественность, либо пророссийская общественность. Здесь особого ума не надо. Я лично был в Киеве с 4 по 15 января и уехал до первой крови за три дня. И когда говорится, что мы не увидели своего Киева… 4 января я прибывал в один Киев, 15 января это был уже более агрессивный, настороженный, выходящий с отрядами самообороны другой Киев, другое настроение. И немудрено не увидеть своего Киева во всем этом.
Я читаю и российские, и украинские сайты, и особенно комменты пугают, я чувствую эскалацию истерии, эскалацию ненависти. Я чувствую, как это движение идет. И если через героев вам удастся показать вот это движение, эту драматургию, как изначально из благих побуждений рождаются Робеспьеры, это будет большое дело. Потенциал для этого существует, покуда есть моменты беспристрастности. Я вижу крымскую женщину, которой бесконечно сопереживаю, и я вижу украинских майдановских романтиков, и мне интересно в динамике развитие характеров, что с ними произойдет дальше. Прелесть истории в том, что драматургию в ней подсказывает жизнь.
Зритель: А вам интересна тема вмешательства третьих сил во внутренние дела Украины? Или это не входит в рамки вашего проекта?
Бубенец: Третья сила — вы имеете в виду Россию?
Зритель: Есть разговоры об американских снайперах, есть разговоры о снайперах Януковича, за которым стоит Путин, тут разговоры разные.
Крашенинников: Слушайте, это конкретный фильм, мы не Нюрнбергский трибунал, чтобы прямо все вопросы обсудить.
Реплика из зала: Вас будут постоянно толкать в сторону агитки и те, и эти. Держитесь!
Зритель: Вот мне кажется, что кусок про Майдан настолько цельный и такова его энергетика, что на этом можно фильм закончить. Потому что серий будет бесконечное множество. Сейчас будет Донецк, потом еще что-то, и так до конца жизни. А то, что Майдан закончился и мы знаем, что было дальше, — это придаст такой особый трагизм. Вот так — а завтра была война… Было какое-то событие, оно закончилось, люди счастливы, а мы знаем, что впереди там еще много всего. Мне кажется, так было бы интереснее намного. Потому что по динамике, по энергетике второй кусок совершенно портит первый.
Крашенинников: Может быть, проброс какой-то в будущее, намек, и на этом закончить? Я соглашусь.
Киселев: А вот еще идея. Майдан — десятки, сотни тысяч. Но были миллионы, которых просто там не было. Они где-то молчали. Вот я следил за столкновением этого активного меньшинства и думал: а где то пассивное большинство и что оно думает по этому поводу?
Зритель: Скажите, а сколько материала осталось за кадром? Вот сборка — 50 минут, много еще материала?
Бубенец: Очень много! Гораздо больше, в несколько раз больше, конечно.
Зритель: Я вас очень прошу, вот эту историю с Антимайданом обязательно вставьте… Я, конечно, смотрел фильм с очень личным отношением, потому что часть моих родственников в Харькове и Днепропетровске, часть друзей в Ровно, есть знакомые в Киеве, и они не принадлежат ни к той, ни к другой активной стороне. Они обычные люди, которые сидят и смотрят, и мы с ними в контакте. Там много страхов, много восхищения, и чувствуется, что страна эта распалась на две части. И если вы это не вставите, то эта линия просто пропадет. Если вы сумеете показать две правды, то это будет, наверное, лучшее, что может сделать художник в вашей ситуации. Пожалуйста!
В те же пространства, где разворачивается революция, врывается стихия голодных, жадных, желающих выпить.
Ратгауз: Мы понимаем, что эта ситуация, украинская и крымская, очень сильно проходит по нам самим так или иначе. Вот вчера Олег Лоевский рассказал, что его знакомые разводятся сейчас, потому что не сошлись по крымскому вопросу. И мы сейчас посмотрели 50 минут этого материала, мы говорим о нем объективно, кинематографически, исторически. Но давайте более лично. Вы посмотрели этот материал в первый раз, он в вас персонально как-то срезонировал? И как? Это вопрос ко всем.
Немченко: Когда ты не просто это смотришь, а представляешь на месте героев своих детей или себя, наступает такой страх! Как говорил Гришковец, «не дай боже»… Вот я смотрела этот фильм, и у меня в голове было все время такое: не дай боже, не дай боже…
Ратгауз: Не дай боже — что?
Немченко: Как ни странно, я, слушающая «Эхо Москвы», глядящая телеканал «Дождь», с бэкграундом, прямо скажем, не запачканным в плане служения какой-то шовинистической или имперской идее, испытываю все равно оторопь и страх. И я все время переписывалась со своими коллегами с Украины, профессурой, преподавателями, и мы как бы извинялись друг перед другом, они все время говорили: это вы нас извините за то, что мы допустили, чтобы нами управляли вот эти. И это вот второй момент, который у меня все время вызывал протест и внутреннее сопереживание: как смогли допустить.
Ратгауз: Как допустили Януковича?
Немченко: Да.
Реплика из зала: Выбрали демократическим путем.
Реплика из зала: А через год вы спросите, как допустили Яценюка…
Немченко: Наверное.
Ратгауз: Давайте не будем уходить в политику…
Киселев: Мне не было страшно, и я скажу почему. За то время, когда все это шло, я посмотрел гораздо более жуткие съемки, которые есть в интернете, и я просто устал бояться. Этот страх притупился. Я боялся вначале, один раз, когда мы организовывали митинг вот с Мишей Борисовым, я боялся, что люди не придут, что страх помешает прийти и сказать свое слово в поддержку Майдана, в поддержку самоорганизации. Но когда пришло 300—400 человек, я понял, что у людей тоже есть вещи, которые позволяют этот страх преодолеть.
Елена Трубина (из зала): А меня резанула очень сцена с туалетом, и она мне показалась очень важной, ее нельзя убирать. Потому что там, с одной стороны, есть совершенно явные следы самоорганизации и представители санитарной инспекции приходят удостовериться в том, что людям будет куда прийти, а с другой стороны, начинается эта сцена с довольно щедрого показа результатов разгрома. Того, другого нет, третье исчезло в неизвестном направлении. И мне кажется, если читать про это урбанистические книжки, то это отличная иллюстрация, если хотите, ограниченности самоорганизации. То есть до какой-то точки ты можешь управлять тем, что происходит, но параллельно, одновременно в тех же самых пространствах, где разворачивается революция, нуждающаяся в том, чтобы были энтузиасты, параллельно и прямо вот наперекор врывается стихия голодных, жадных, желающих выпить, не способных себя контролировать. Потому что есть пресловутые законы толпы. Я сейчас вспоминаю очень хорошую книжку Харви, которая называется «Города-бунтари», он рефлексирует по поводу Оккупая, рассуждает по поводу того, почему столь половинчатыми были результаты Тахрира. И он там очень здорово пишет о том, что есть проклятие масштаба: то, что ты можешь сделать в пределах площади — а Майдан останется в легендах, — ты не растянешь даже на район, не говоря уже про город. Не говоря уже про страну. И вот мы сейчас в этой точке истории, когда мы на своей шкуре убеждаемся, что этот взлет не растянуть горизонтально, что эту горизонтальную самоорганизацию ты не сделаешь компонентом повседневности. Мне кажется, это чертовски важно. И если кому-то нравится думать, что это добавляет драматичности, — ради бога, но мне кажется, что здесь вы нащупали что-то очень важное с точки зрения инструментальности, техники, инфраструктуры революции, восстания. У нее есть очень жесткие пределы.
 © Нурия Фатихова
© Нурия ФатиховаКрашенинников: Я как раз слушал вашу лекцию про Ханну Арендт недавно и стал читать Ханну Арендт, и я нашел аналогию того, что происходит с нами всеми, что есть Украина для нас для всех. Это дело Дрейфуса. То есть по сути сейчас для России ситуация на Украине — это как дело Дрейфуса для Франции, когда всю страну, всю нацию перекособочило до такой степени, что им пришлось много-много лет потом сводить концы с концами. Есть известная карикатура Карандаша, когда семейный обед начинается разговором о деле Дрейфуса и кончается тем, что все друг друга бьют. Это к вопросу о том, как люди разводятся из-за Украины.
Зритель: Господа, я уже на протяжении нескольких лет начал замечать логику, которая прозвучала в ваших словах сейчас. Опять дело Дрейфуса. Давайте опять разделим на козлищ и овнов, давайте опять разделим на правильных и неправильных. Да, кто-то развелся. У меня мама украинка, отец русский, и мама моя третий месяц на корвалоле, а ей уже немало лет. И в моей семье тоже все не слава богу, и у них тоже эти споры. Но как только мы с вами здесь, вполне вменяемые люди, начинаем усиливать эту тему: кто не с нами, тот против нас… Извините, но так это прозвучало. Дело Дрейфуса действительно раскололо общество. И очень бы не хотелось, чтобы украинская ситуация лишила сторонников разных взглядов возможности находить точки соприкосновения.
Крашенинников: Да я вспомнил дело Дрейфуса не потому, что там были хорошие и плохие, там тоже было не все так просто. И вы говорите, что плохо, что общество расколото, но оно уже раскололось.
Зритель: Можно усиливать раскол! А можно сглаживать.
Крашенинников: У меня нет задачи усиливать конфликт…
Зритель: Есть риторика конфликта.
Ратгауз: Мне кажется, мы сейчас вокруг очень важного вопроса крутимся. Дело Дрейфуса в данном случае — это просто метафора, и если мы сейчас не будем говорить про метафоры, а будем говорить про смыслы — а что нас раскалывает? Понятно, что Украина — это образ этого раскола, а что нас раскалывает по-настоящему, содержательно?
Крашенинников: Содержательно нас раскалывает непережитое советское прошлое и отношение к нему. Для кого-то это самое светлое и прекрасное, что было в жизни, а кому-то это не нравится. И 23 года назад мы не проговорили это до конца, с 1991 года дискуссии были загашены. Люди жили с этим, и вдруг возник повод — ситуация, нас напрямую совершенно не касающаяся, — когда люди за столом даже семейным могут друг другу все сказать и про 1991 год, и про 1993 год. Всплыли все давние недоскандаленные скандалы, и в публицистике, и в личных разговорах. Вот это я вижу. И на очень разных уровнях. Две правды и столкновение этих двух правд, которые подспудно тлели 23 года, недоигранные партии, которые доигрываются.
Реплика из зала: С 1917-го!
Киселев: Советский гештальт мы действительно не проговорили, не успели. И я тоже только за то, чтобы искусство вело к нахождению выхода, точек соприкосновения — через проговаривание, чтобы раскол не усугублялся. Но я как ученый, который занимается этим всем, могу сказать, что раскол будет только нарастать. Хотим мы этого или нет, но дальнейшие события будут еще более трагичны, чем то, что мы видим сегодня.
Реплика из зала: Делай что должно, и будь что будет…
Ратгауз: Мне кажется, что Федор и Константин предложили свой ответ на мой вопрос, они говорят о том, что на самом деле это непережитая, непроговоренная история с Советским Союзом и его крахом. А для других — что содержательно раскалывает вас или ваши семьи?
Трубина: Вот конкретный пример из нескольких семейных разговоров. Он, кстати, иллюстрирует, что гештальтов советских несколько. Человек, который не очень увлечен социальными сетями, время от времени включает телевизор, и ты видишь, что с нормальным инженером может сделать массированная пропаганда. Он начинает транслировать великодержавный шовинизм, он может говорить, что президент Литовской Республики НАТО зовет к нашим территориям. И ты понимаешь, что может сделать массированная манипуляция посредством телевидения с трезвым, активно работающим человеком. И мой тезис заключается в том, что можно было легко нащупать еще один раскол — между социальными сетями и теми, кому они помогают в самоанализе, и телевидением. Единственная защита от этого — не смотреть, даже когда ты гладишь. В этом смысле Украина с ее Востоком и Западом воспроизводит, если угодно, глобальный культурный раскол, потому что медийщики, теоретики медиа, ровно это самое и описывают. Они говорят: посмотри на любую страну — Англию, Францию, и ты найдешь то же самое. Меньшинство, которое занимается тонкими рефлексиями при помощи социальных сетей, и большинство, хавающее ту пищу, которую готовит коммерческое телевидение повсеместно, глобально.
Нас раскалывает непережитое советское прошлое и отношение к нему.
Киселев: В общем и целом соглашусь, но у меня есть исследование по Челябинской области, где аудитории телевидения и интернета дали ровно тот же самый срез политических предпочтений.
Крашенинников: Социальные сети стали местом и рефлексии шовинистов, и очень многие люди обрели для себя там такой выход! И, кстати, украинские тоже. Я уже всем рассказываю, что я начал банить очень много украинских пропагандистов, потому что, извините, это одно и то же. Я недавно написал, что мы с украинцами братья гораздо больше, чем хочется. И даже националисты у нас абсолютно одинаковые. Украинские националисты бьются в истерике во Львове: мы всем покажем! Я их спрашиваю: что вы во Львове показываете, вы в Славянске покажите, идите прямо сейчас! То есть националисты упражняются в демагогии и делают картиночки, гадят друг на друга, интеллигенция хватается за голову, бегает и переживает, а основное население пересказывает то, что услышало по телевизору. Поэтому социальные сети тут не иммунитет. Для меня было поразительно, когда девочки, которые в социальных сетях постили котиков, зайчиков и ездили в Европу, вдруг стали вываливать вот такие телеги: «Европа, проклятая, нас поработила!» Я думаю: ты, которая из Европы не вылазила, про Европу пишешь!
Киселев: По переписи уже 60 процентов сидит в сетях.
Немченко: Позвольте поделиться. У нас есть украинские коллеги, которые занимаются советским. И есть такая студия «Советикус», в Нежине, Киеве, Одессе проводятся конференции. Я приезжала туда, и при том что я выдавливала всегда из себя рабство, но там меня в какой-то момент начинало заедать. Мы разговариваем в коридоре по-русски, а потом начинается конференция — и все говорят по-украински. И ты задаешь вопрос по-русски, а тебе все равно отвечают по-украински. Через год я уже думаю: ладно, это надо уважать, они имеют право. Но чтобы пройти к этой установке — имеют право, «чужое», «другое», снять с себя патерналистский настрой, эту позу — это же колоссальная работа. Этой работы никогда на уровне воспитания и просвещения не было. Вот сначала я понимала, что я должна просто заткнуться, я приехала в другую страну. Но меня это как-то все равно раздражало.
Крашенинников: А каково было людям в Крыму, которые жили в этой стране 23 года и не понимали, почему они должны учить язык, на котором не говорят. Вот это была проблема, не осмысленная украинским государством. Они этим не занимались. Трагедия какая, почему Восток так себя ведет? Украинское телевидение перешло на украинский язык, и Восток его перестал смотреть. Кто они после этого? Ну, дураки, что еще сказать. Если жители страны не все говорят на этом языке, это ваши проблемы, и они будут смотреть российские каналы. Они смотрят на Украину глазами российской пропаганды. Чья это заслуга? Украинская! Так вот, я хочу про социальные сети сказать. Я как теоретик, который про это и книжку написал, хочу сказать, что все мы не увидели главного в социальных сетях: это не только добро, это еще и зло! Когда в 90-е годы государство транслировало либеральные ценности, люди это ненавидели и говорили: что вы нам несете ерунду?! А тут вдруг человек получил возможность. Ему говорят: не будь шовинистом! Он выходит в социальную сеть, а там все такие — и ему приятно, ему здорово, и он чувствует, что их миллионы. Раньше надо было идти на митинг, на улицу, а сейчас ты просто сел в интернет, и вы друг другу пишете, вам хорошо, у вас общность, единство. То есть интернет создавался, как известно, для полезных вещей, а стал рассадником порнографии. Так и здесь: социальные сети создавались, чтобы люди рефлексировали, а в итоге там любой фашист, сектант, кто угодно может собрать себе аудиторию. Мы же видим этих лидеров, тот же Гоблин-Пучков, который крупный теоретик: кто он такой, почему? А вот он так сидел-сидел, писал-писал и стал популярным. Вы упускаете очень тонкий коммуникационный момент — пропаганда идет еще и в социальных сетях. Сети у нас одни, общие, нет отдельных сетей для либералов и для сталинистов. И сейчас миллионы рублей тратятся на то, чтобы в этот поток информации шла информация со всех сторон. И ваш старый друг мог стать сталинистом потому, что его очень хорошо окучили со всех сторон.
 © Нурия Фатихова
© Нурия ФатиховаТрубина: Я хотела сказать, что еще отличный у вас есть стык — короткого интервью с украинским солдатом в Крыму и прямо за ним русского неизвестно кого в шлеме. И мне кажется, что уверенность и спокойствие, с которыми рассуждает украинец, и нежелание, неспособность что-то членораздельное сказать, когда вы подносите микрофон, у русского «зеленого человечка» усиливают у тебя чувство моральной правоты одного народа и моральной неправоты другого. Потому что ты смотришь на этих ликующих в Крыму людей и думаешь: чего стоила ваша жизнь в предшествующие 20 лет, если от того, что у вас теперь появится новый паспорт, вроде бы все переменится? Тогда кто вы, какие вы граждане, какие вы люди, что вы сделали за свою жизнь, за 20 лет, когда вы жили как украинские граждане?
Крашенинников: Но вы видели две армии — одна разгромленная, где лежит расхристанный человек и вам рассказывает, что он тоже русский. Это разгромленная армия, понимаете! Это, по сути, военнопленные. Он лежит без оружия, с травинкой и рассказывает: мы такие хорошие. А тот, который молчал, второй, он выполнял приказ, он на службе. Я его не оправдываю, но это просто армия победителей, которая действует по уставу. И расхристанная армия, которая без единого выстрела сдала Крым. Как немецкий военнопленный после Сталинграда лежал бы и говорил: «Гитлер плохой…» По сути, эти бедные ребята — заложники ситуации. А военнопленные всегда словоохотливы, им делать нечего, как сесть и рассказать о своей горькой судьбе. Солдатики вообще любят поговорить на привале. А вот тот, который стоял, — он только выполнял приказ, что показывает еще раз, что это никакая не самооборона, конечно же, а очень вымуштрованные и подготовленные солдаты.
Титов: Обращаясь к режиссеру и глядя на сегодняшний раздрай и междусобойчик, я думаю, что в Украине как-то так же начиналось. Мне интересно, как междусобойчик элит превращается в войну. Если будет показан такой механизм, это было бы бесконечно большое дело! Когда благодушные, мнящие себя мозгом нации люди начинают сначала ссориться между собой, потом в это пространство втягиваются люди, которые спокойно сидели и смотрели «Аншлаг» и никого не трогали, — и началось, и понеслось. Элита прежде всего между собой должна разобраться и не втягивать в собственные драки и ненависть массы. Когда это случается, когда народ отрывается от «Аншлага», видимо, происходит страшное.
Ратгауз: Друзья, очень интересный разговор! Большое спасибо!
Понравился материал? Помоги сайту!
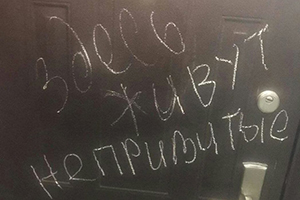 Общество
Общество
 «Варя». Онлайн-показ
«Варя». Онлайн-показ  Смотрите «Варю»
Смотрите «Варю» «Самовыдвиженка». Онлайн-показ
«Самовыдвиженка». Онлайн-показ Смотрите фильм Юлии Киселевой «Самовыдвиженка»
Смотрите фильм Юлии Киселевой «Самовыдвиженка» «С Украиной ситуация такая же, как с девочками, которые кололи меня булавками»
«С Украиной ситуация такая же, как с девочками, которые кололи меня булавками» Алена Полунина: «Меня бесят в себе ростки доброты. Это отвратительно»
Алена Полунина: «Меня бесят в себе ростки доброты. Это отвратительно» Встреча с режиссером Аленой Полуниной
Встреча с режиссером Аленой Полуниной «Бывшие коллеги шампанское откупорили, когда избавились от меня»
«Бывшие коллеги шампанское откупорили, когда избавились от меня» «Ну какой Сталин, ну елки-палки»
«Ну какой Сталин, ну елки-палки» «Самовыдвиженка»
«Самовыдвиженка» «Я подписала письмо Путину. И я бы еще раз подписала»
«Я подписала письмо Путину. И я бы еще раз подписала» Протест три года спустя. Что это было?
Протест три года спустя. Что это было?