 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?
Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202330782 Лев Эренбург© ИТАР-ТАСС
Лев Эренбург© ИТАР-ТАССВ ближайшую среду Театр имени Маяковского выпустит «Бесприданницу» Островского в постановке петербуржца Льва Эренбурга. Замерев в ожидании одной из ключевых премьер столичного сезона, COLTA.RU публикует эссе Алексея Гусева о поэтике режиссуры основателя Небольшого драматического театра.
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.
(Осип Мандельштам)
Статья эта приурочена к премьере московского спектакля Льва Эренбурга «Бесприданница», а посвящена вроде бы предыдущему его, у себя в театре сделанному спектаклю «Ю», хотя посвящение это скорее из тех, что печатают курсивом на форзацах, рецензией ожидающий вас текст не назовешь, в рецензии надо было бы разобрать рисунок и архитектонику, а в заключение сказать, дальше ли продвинулся Небольшой драматический театр в спектакле «Ю» и если да, то куда — или же, напротив, забуксовал на месте, про авторский театр так положено ставить вопрос: сопоставлять с предыдущими работами и намечать вектор — но с «Ю» все иначе, у Эренбурга вообще не до векторов, если не считать колодезной вертикали из «На дне», и спектакль по пьесе Оли Мухиной важен прежде всего потому, что это первая средняя пьеса, пьеса-не-шедевр, взятая НеДТ в оборот, — хотя был еще, конечно, дипломный «В Мадрид, в Мадрид!», но после «Трех сестер» тот гештальт можно считать закрытым, Мадрид там был лишь попыткой Москвы, дальним подступом, — и потому главное в «Ю» то, что Эренбургу уже не важно, на каком материале делать спектакль, что там Чехов и Горький, этюды прорастут из какого угодно текста, да хоть бы и поверх текста, удесятерив сюжет и нагромоздив предлагаемые обстоятельства, хотя поклонникам пьесы, буде таковые сыщутся, впору обидеться на режиссера за неверность оригиналу, как недавно поклонники Стругацких обиделись — вдогонку — на Германа, который длиной планов и буйством фактуры размыл комсомольски внятный идеологический посыл романа, и вот о чем на самом деле пойдет тут речь, а весь дикий стиль этого абзаца (который мог бы напомнить иным «Мазурку для двух покойников» Камило Хосе Селы, когда бы Мадрид не был лишь попыткой Москвы, да и дай Бог Эренбургу крепкого здоровья) был нужен лишь для того, чтобы сразу отсеять нечутких к длинным планам и этюдной разработке, потому что в этом-то все и дело, именно в этом, так что теперь уж можно возвращаться к формату COLTA.RU, наверное.
 Сцена из спектакля «Преступление и наказание» © «Небольшой драматический театр»
Сцена из спектакля «Преступление и наказание» © «Небольшой драматический театр»«Неважность материала» сказано не в упрек и даже не в обиду, напротив. Текст есть нечто, что дóлжно превзойти: понимание этого — основа основ театральной системы, которая возникла в конце XIX века на волне модной тогда концепции сверхчеловека и была названа учением о сверхзадаче. (Потому еще так забавны новоявленные охранители, требующие от режиссеров верности одновременно и избранному материалу, и заветам Станиславского; впрочем, парадоксалисты вообще забавны.) Преодолеть текст, проникнуть под него, подробно сочинить бурлящую под его покровом жизнь и затем, прочертив внутри этого бурления архитектуру силовых линий, сориентировать ее на воображаемую неевклидову точку: все это, в конце концов, отводит пьесе функцию симптома. Или, если угодно, улики: мой покойный учитель Вадим Голиков, выпускник первой товстоноговской мастерской, объяснял, что пьеса есть расшифровка диктофонной записи, нечаянно обнаруженной на месте преступления, а режиссер — детектив, который по этой записи должен реконструировать картину произошедшего. Лев Эренбург, выпускник последней товстоноговской мастерской, правда, явно предпочитает амплуа диагноста и восстанавливает клиническую картину с анамнезом и букетом осложнений; однако после восьмисезонной эпохи «Доктора Хауса» делать различие между детективом и диагностом — занятие праздное.
Прилюдно излагать азы системы Станиславского в разгар 2014 года — занятие вроде бы не менее праздное, но тут есть четкий резон, и даже не один. Во-первых, представление о системе разнится в Москве и Питере не меньше, чем номенклатура хлебобулочных изделий: иначе расставлены акценты, иначе строится методология; и призма, сквозь которую воспринимаются базовые понятия и приемы Школы в той столице, что посеверней, была отшлифована полвека назад именно Товстоноговым (недаром был период, когда посты худруков почти во всех ленинградских театрах занимали его ученики). Во-вторых, Лев Эренбург, несмотря на какое-никакое официальное признание, продолжает числиться даже по петербургским меркам маргиналом, что отчасти справедливо, но по-своему забавно: ведь он единственный в современном российском театре, кто не только всерьез остается адептом Системы «в чистом ее виде», но у кого она к тому же вопреки всему взаправду работает. Переняв ее товстоноговский извод из первых рук, он не гнушается месяцами, подчас годами накапливать бесчисленные этюды, дабы затем ужать получившееся до трех часов сверхплотного сценического действия. Коллеги уважительно кривятся: «чересчур, мол, все чересчур»; ну еще бы не кривиться, аутентичность — субстанция терпкая. А еще говорят — мол, «натурализм». И это — очень важное в-третьих.
 Сцена из спектакля «Три сестры»© «Небольшой драматический театр»
Сцена из спектакля «Три сестры»© «Небольшой драматический театр»Потому что, в-третьих, в том мультибрендовом тигле школ и стилей, коим была европейская культура второй половины XIX века, натурализм и система Станиславского — особенно если понимать первый правильно, по Андре Антуану, а Эренбург его понимает как раз правильно — сплавлены ближе, чем принято считать. И дело тут не столько в антропологии или представлении о мире, сколько в отношении к тексту. Для Золя или Ибсена подлинная суть человека скрыта под тонкой наносной пленкой культуры и воспитания, как мясо под кожей; его рефлексы, неврозы и фобии выходят наружу в острых, конфликтных ситуациях, в нормальной же обстановке проявляются косвенно, намеками. Система Станиславского так же в точности воспринимает текст и таящееся за ним действие, нуждающееся в режиссере для выявления: как культурный слой поверх безраздельного буйства реакций и пристроек, обусловленного лишь средой и биографией (читай: наследственностью). Этюдный метод есть, в сущности, стресс-тест для текста, обостряющий симптоматику реплик настолько, что организм пьесы в конце концов просто идет вразнос. Чем более важно происходящее, тем менее важно произносимое, и разница между «мама, дай мне солнце» и «в этой самой Африке сейчас ужасная жара» — в уровне проведения приема, но не в методе.
Совместить уровни, сконструировав человека-зверя со сверхзадачей, мало кто отваживался. Чехов был слишком брезглив для научного подхода к животному началу в человеке, Ибсен же Бранда с Освальдом попытался было скрестить разве что в Гедде — и с явным проигрышем второго первому. Получилось, кажется, у одного лишь Горького с его специфическим равным пристрастием к свинцовым мерзостям и молодеческому ницшеанству — и это чрезвычайно важное в-четвертых. Потому что система Станиславского вполне проверяется не на Чехове (он все же слишком универсален), а как раз таки на Горьком, под ним она резонирует, как мост под взводом. Проигрывая, возможно, «Трем сестрам» в стройности, а «Ю» в свободе, — «На дне» Эренбурга остается таким же уставным капиталом, катехизисом поэтики Небольшого драматического театра, каким были товстоноговские «Мещане» для Большого. Важно, однако, другое: это та же самая поэтика. По духу, по букве, по методу, по нюансам, по побочным эффектам. Большому драматическому театру имени Горького, руководимому Товстоноговым, наследует не БДТ имени Товстоногова, но НеДТ Льва Эренбурга, потому что он тоже имени Горького. Забавно, было сказано выше, видеть, как Эренбурга числят в маргиналах; забавнее этого лишь наблюдать, как БДТ долгие годы напролет (через две недели уж минет четверть века) тщательно подыскивает преемника покойному наставнику, перебирая достойные, но нерелевантные кандидатуры, в то время как наследник по прямой бродит неузнанным на расстоянии нехитрого каламбура.
 Сцена из спектакля «Ивановъ» © «Небольшой драматический театр»
Сцена из спектакля «Ивановъ» © «Небольшой драматический театр»…Иному читателю рассказ этот — об этюдном методе и натурализме, о детективах и диагностах, об учениках и преемниках — может показаться слишком уж частным: ну какое, право, ему дело до питерского театрика, играющего раз в неделю для небольшого зала, в какие бы важные контексты он ни помещался при должном рассмотрении? Что такого насущного и актуального в сих хитросплетениях эстетической наследственности? Но дело в том, что весь этот комплекс средств и примет — сверхтщательная разработка действия, годами идущие репетиции, натурализм деталей и образов, приоритет ежесекундной подробности над общей конструкцией и ритмом, диагностический подход к мотивировкам и реакциям персонажей, наконец, размывание текста тотальной режиссурой — все это наследие Товстоногова совсем недавно оказалось в центре внимания не только широкой российской, но и мировой аудитории. Потому что у Товстоногова среди прочих был еще один ученик. Звали его Алексей Герман. И ученик он был хороший.
Чтобы увидеть, что фильмы Германа и спектакли Эренбурга идентичны по своей поэтике — с поправкой на разницу кино- и театрального языков, — достаточно поэтапно, прием за приемом, сличить их (хотя довольно было бы и неразличимых зрительских отзывов: похвал и особенно попреков). Скажем, пресловутый перфекционизм германовского вúдения — тот же этюдный метод, просто в визуальном изводе, где «исполнителями» становятся свет и фактура. У обоих режиссеров избыточная длина плана-эпизода затрудняет монтаж: и в «Трудно быть богом», и в «Ю» стыки между отдельными сценами подчас настолько механичны и насильственны, что выглядят почти неумело. У обоих этюдность, т.е. ситуативная обособленность разработки, ведет к неопределенности, неосязаемости основной категории: в театре Эренбурга — времени (здесь никогда не определить, часы или недели длится один вроде бы непрерывный акт), в кинематографе Германа — соответственно пространства (и генерал Кленский по Москве, и дон Румата по Арканару перемещаются как по цельному, непрерывному лабиринту). Оба снаряжают главных героев, встающих лицом к лицу с мировым хаосом, чем-нибудь мелким и бытовым (башмак, которым Сатин забивает торчащие отовсюду ржавые гвозди, стóит белоснежных платков, которыми Румата тщится перешибить арканарскую вонь). И смерть у обоих дается обычно впроброс, нежданно и походя: там, где человеческое, как в тисках, зажато между бредом внешнего мира и кошмаром внутреннего, любая жизнь настолько хрупка и неверна, что обрывается без предуведомлений. Ну и так далее. А поэтика приемов влечет за собой эстетику стиля. И вот тут придется возвысить тон.
 Сцена из спектакля «В Мадрид, в Мадрид!»© «Небольшой драматический театр»
Сцена из спектакля «В Мадрид, в Мадрид!»© «Небольшой драматический театр»Любовь Аркус однажды сказала, что Герман словно бы таинственным образом умудрился перевести на киноязык генокод нации, воплотив на экране не только «крупу частностей» местного быта и истории, но само мироощущение, обитающее на здешних просторах; genius loci как киностиль. Что ж, с тем же правом можно сказать, что театр Льва Эренбурга — единственный на сегодня культурный феномен, имеющий дело не с «отдельными проявлениями» российской действительности, но с Россией как таковой, говорящий об основном в ней, базовом, специфическом, невнятном никому, кроме «местных», будь то повадки, реакции или общее устройство души. Отчего оно так, почему именно этюдный метод товстоноговской выделки порождает подобные феномены — пусть в том разбираются теоретики, благо вариантов, даже навскидку, множество. Но если дело обстоит именно так — значит, не все потеряно. Ибо искусство — субстанция требовательная. Ничто эфемерное, фальшивое, мертвое или отсутствующее на его язык перевести нельзя: ведь он устроен так, чтобы производить смысл. И, в конце концов, возможно, эстетика эренбурговских спектаклей — единственное, что еще обеспечивает всем нам шанс на подлинность.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202330782 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202259617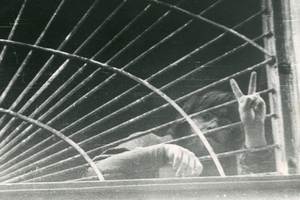 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202276247 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202242042 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 2022104608 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202262542 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202242628