 Кино
КиноВыверните карман
 © Colta.ru
© Colta.ruCOLTA.RU и московская библиотека «Проспект» с удовольствием представляют совместный проект под названием «Впервые по-русски / Школа перевода». Нам кажется, что пришло время ввести в читательский оборот классические тексты, которые до сих пор не были переведены на русский язык, и сделать их доступными для широкой аудитории. Среди того, что мы собираемся опубликовать, — неизвестное эссе Рильке, письма Эмили Дикинсон, тексты В.Г. Зебальда — последнего из великих писателей XX века… Переводы будут печататься здесь, на COLTA.RU, а в дальнейшем выйдут в свет отдельной книгой.
Должно быть, фонограф был изобретен незадолго до того времени, когда я был школьником. Во всяком случае, он был в центре всеобщего внимания и изумления, и так, наверное, объясняется то, что наш учитель физики, любитель мастерить разнообразные хитрости, поручил нам собрать такой прибор из подручного материала. Для этого понадобилось немногое: лист гнущегося картона, свернутый в воронку; лист непроницаемой бумаги наподобие той, которой закрывают банки с вареньем; этим листом заклеили узкое горло воронки и, таким образом, смастерили мембрану для уловления колебаний, а в ее центр, наконец, вставили вертикальный шип, сделанный из жесткой щетины со щетки для платья. Из этого нехитрого набора соорудили одну из половин загадочной машины, ее приемный и передаточный механизмы; оставалось изготовить записывающую часть — валик, вращаемый кривошипом и вплотную придвинутый к пишущей игле. Я не помню, из чего мы сделали валик, но нашелся подходящий цилиндр, и мы в меру способности покрыли его тонким слоем свечного воска. Едва воск успел немного остыть и затвердеть, как мы с нетерпением, разгоревшимся за работой, поспешили, расталкивая друг друга, убедиться в успехе нашего предприятия. Можно без долгих объяснений представить себе, в чем оно заключалось. Тот или иной из нас говорил или пел в воронку, а игла, торчавшая в мембране из пергамента, записывала звуковую волну на податливой поверхности медленно вращавшегося валика. Когда же потом мы проигрывали валик, позволяя игле повторять свой же путь (уже закрепленный лаком), из бумажного раструба доносился дрожащий, нетвердый, но наш, узнаваемый тон, пусть и не слишком отчетливый, обрывающийся, неописуемо тихий, с запинками. Каждый раз это действовало на нас безотказно. Наш класс не принадлежал к самым спокойным, и, должно быть, не много случалось мгновений, когда в нем воцарялась такая полная тишина. Но ведь и само явление из раза в раз не становилось менее удивительным, оно действительно поражало до трепета. Люди оказались перед лицом в некотором смысле совсем новой реальности, точнее, самого нежного ее зачатка, и к нам, детям, обращалось — пусть пока еще несказанно неловко и словно моля о помощи — нечто, превосходящее всякое воображение. В тогдашний момент и потом еще долгие годы спустя я думал, что мне навсегда запомнится именно звук, который мы записали и сохранили. Но оказалось иначе — это и есть причина, по которой я сейчас пишу эти заметки. Не звук из раструба оказался решающим, как показала память, а следы, оставленные иглой на валике. Именно они оказались для меня единственными в своем роде.

Четырнадцать или пятнадцать лет прошло с тех школьных дней, когда я о них вдруг вспомнил. Я тогда только недавно переехал в Париж и с достаточным прилежанием посещал анатомические уроки в школе изящных искусств, причем меня занимало не столько многообразное переплетение мышц и жил и не столько совершенство слаженной работы внутренних органов, сколько жесткий скелет, сдержанную энергию и гибкость которого я уже успел оценить по рисункам Леонардо. Как ни ломал я голову над архитектонической цельностью скелета, все же я не мог охватить ее целиком, и мое внимание сосредоточивалось снова и снова на изучении черепа, в котором, если можно так выразиться, я видел наивысшее выражение того, что можно достигнуть, используя известковое вещество кости. Оно словно бы согласилось сослужить последнюю, решающую службу — вложить все силы в создание прочной защиты для своего беспредельно смело задуманного, плотно вложенного наполнения, которое, в свою очередь, способно на беспредельные усилия. Притягательная сила, которой обладал для меня этот особый, закрытый для мирового пространства сосуд, заставила меня в конце концов приобрести череп в собственное пользование, чтобы проводить с ним наедине долгие ночные часы; и, как и всегда происходит в моих отношениях с вещами, не только моменты намеренного изучения этого неоднозначного предмета позволили мне сродниться с ним, но, без сомнения, он вошел для меня в привычку уже самим присутствием в знакомой обстановке, которую волей-неволей окидываешь взглядом и принимаешь к сведению. Таким рассеянным взглядом я как раз и окидывал его в тот миг, когда мое внимание вдруг остановилось и полностью сосредоточилось на нем. Случаются мгновения, когда свечи горят особенно требовательно и трезво; в их свете мне внезапно бросился в глаза шов на своде черепа, и я тут же понял, что он мне напоминает: те самые незабвенные следы, процарапанные острой щетиной в воске валика!
Положение любящего таково, что он будто бы неожиданно оказывается в самом центре круга, то есть там, где известное и непостижимое сходятся в единственной точке и отдаются ему во владение во всей своей полноте, однако же все частности при этом уравниваются.
А теперь не знаю: ритмичность ли, свойственная моему воображению, виной тому, что у меня с периодичностью в несколько лет возникает с тех пор желание провести целый ряд неслыханных опытов, исходя из этого однажды негаданно замеченного сходства? Сразу же признаюсь, что всякий раз, когда меня охватывает это желание, я отношусь к нему не иначе как с крайней недоверчивостью; доказательством тому служит уже сам факт, что я только теперь, более полутора десятков лет спустя, решаюсь осторожно о нем рассказать. Добавлю, что мне нечего сказать в защиту моей идеи, кроме того, что она настойчиво возвращается снова и снова без всякой связи с моими прочими занятиями и то и дело застает меня врасплох в самых разных ситуациях.
Что же мне подсказывает мое воображение? Вот что.
Шов на своде черепа — это тоже нужно сперва изучить, но допустим, что это действительно так — имеет непреложное сходство с мелкими извилинами линии, оставляемой иглой фонографа на вращающемся цилиндре. Что произойдет, если иглу обмануть и подставить под нее не графическое отображение следа звуковой волны, а нечто и так уже от природы существующее, — говоря прямо: что, если подставить под иглу шов на черепе? Что будет? Раздастся звук, ряд звуков, музыка...
Чувства — какие? Недоверчивость, смущение, робость, трепет — каково же оно, чувство, мешающее мне дать имя первозвуку, который пришел бы в мир...
Отвлекусь на мгновение. Каких только линий нельзя было бы подставить под иглу и подвергнуть испытанию! Каких только контуров нельзя было бы таким образом завершить, переведя их в область другого органа чувств!
***
В то время, когда я начал заниматься арабскими стихами, в создании которых, как мне кажется, участвуют одновременно и в равной степени все пять чувств, мне впервые стало ясно, насколько неравномерно распределяются чувства в восприятии современных европейских авторов. Из всех пяти чувств они выделяют почти одно только зрение, перегружают им мир и потому не в силах с ним справиться; как же незначительна при этом оказывается лепта, вносимая в стихи невнимательным слухом, не говоря уже о безучастности прочих чувств, каждое из которых оказывается задействовано в отведенной ему сфере не целиком, а лишь побочно и урывками. И тем не менее законченное стихотворение может возникнуть только в том случае, если все пять чувств, все пять рычагов к подъему мира вознесут один из его аспектов в ранг сверхъестественного, а ведь этот ранг для стихотворения как раз естественен.
Женщина, которой я все это рассказал в одной из наших бесед, воскликнула: «Ведь эта чудесная способность всех чувств работать сообща — не что иное, как духовное присутствие и благодать любви» — и тем самым невзначай привела собственное доказательство возвышенной реальности стихотворения. Однако влюбленный именно потому так сильно рискует, что он находится во власти единого действия своих чувств и знает, что они объединяются лишь в случае успеха в единственной срединной точке, где они, отвергнув дистанцию, сходятся, но где не могут остаться навечно.
Когда я говорю об этом, у меня перед глазами встает картина, которой я часто пользуюсь как удобной иллюстрацией к подобным рассуждениям. Представим себе все пространство познаваемого мира в виде полного круга, в том числе и те его области, которые нам недоступны. Мы увидим, насколько шире темные секторы, изображающие зоны непознаваемого, чем светлые клинья, прочерченные прожекторами наших чувств.
Положение любящего таково, что он будто бы неожиданно оказывается в самом центре круга, то есть там, где известное и непостижимое сходятся в единственной точке и отдаются ему во владение во всей своей полноте, однако же все частности при этом уравниваются. Поэту такой сдвиг не подходит, потому что он должен держать в уме все разнообразие частностей, ведь он намерен использовать всю постижимую для чувств широту, и потому он не может не желать по возможности расширить границы каждого из чувств, чтобы его восторг сумел, собравшись, одним прыжком перемахнуть через все эти пять чувств, пять садов.
Тогда как опасность для любящего заключается в узости, свойственной его позиции, для поэта опаснее всего постигнуть, какие бездны отделяют сферу одного чувства от сферы другого: они и действительно так широки, что способны оторвать от нас и засосать в себя огромную часть мира — и кто знает, сколько еще миров.
Возникает вопрос: а не может ли работа исследователя помочь нам существенно расширить пространство зон, доступных чувствам на нашем уровне? Способны ли чувства освоить иные слои при помощи устройств, смещающих их вверх или вниз по шкале, таких, как, например, микроскоп или телескоп, несмотря на то что таким образом приобретенное расширение чувствами напрямую не «переживается»? Думается, не будет опрометчивостью предположить, что художник, который развивает в своей, если можно так выразиться, пятипалой руке чувств все более чуткую и одухотворенную силу, работает в первую очередь над расширением отдельных областей чувств, вот только перенести свой личный вклад на общую карту ему не позволяет то обстоятельство, что рубеж, достигнутый им, непостижим без чуда.
Если же задаться целью найти средство для того, чтобы установить связь между столь удивительно разделенными областями, на что же возложить надежды, как не на опыт, описанный выше в моем повествовании? Поскольку в завершение автор еще раз сдержанно предлагает этот опыт поставить, пусть ему до некоторой степени зачтется то, что он смог воспротивиться искушению расписать все необходимые для опыта условия, руководствуясь одной только свободной игрой своего воображения. Слишком уж узко сформулированной кажется автору эта задача, долгие годы то оставляемая им позади, то возникающая перед ним снова.
Сольо, в день Успения Богородицы, 1919 г.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Кино
Кино Литература
Литература Общество
ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»
25 января 20229370 Искусство
Искусство Литература
Литература Кино
КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау
21 января 20228816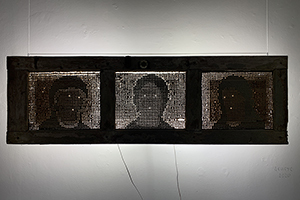 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Театр
Театр Литература
Литература Современная музыка
Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь
20 января 20229073 Академическая музыка
Академическая музыка